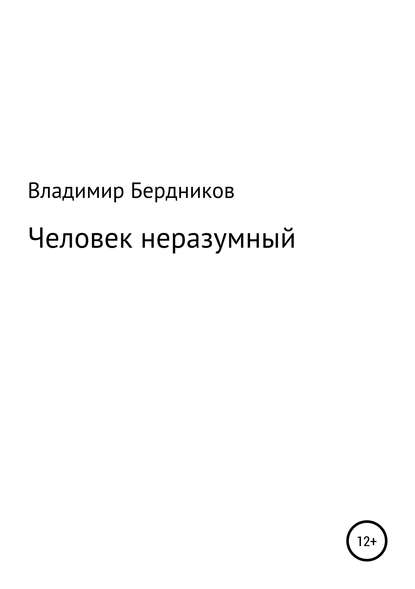 Полная версия
Полная версияЧеловек неразумный
Однако вернёмся к теме его первой любви. В начале четвёртой четверти был школьный вечер с танцами, а танцам предшествовало «культурное мероприятие», на котором активные школьники пели песни и читали стихи. Заломов и Юрка сидели среди зрителей и благодушно ожидали конца нудной комедии. И тут совершенно неожиданно на сцену вышла Танечка и стала читать письмо Татьяны к Онегину. Душа Заломова сжалась в комок. Больше всего он боялся, что его возлюбленная провалится, что скромность и редкая сдержанность не позволят ей прочесть всё как нужно. Она декламировала негромко, но так проникновенно, так искренне, что временами у него мороз пробегал по коже. И ему казалось, что письмо, читаемое Танечкой, было предназначено не Онегину, а лично ему. Когда она закончила, раздались аплодисменты, и Танечка как-то вызывающе взглянула на него, а может быть, на сидящего рядом друга.
А после концерта были танцы. Заломов танцевал с кем угодно, но только не с Танечкой, Юрка же, напротив, танцевал только с нею. Вечер близился к завершению, когда вдруг объявили дамский вальс. Заиграла музыка, но никто из «дам» с места не тронулся. Просторный зал был пуст, сверкал начищенный паркет, да сияли белизной передники рассевшихся вдоль стен старшеклассниц. И тут одна из них резко поднялась и с решительным видом направилась к стоящим рядом друзьям. Это была Танечка. Юрка уже подтянулся, решив, что девушка идёт к нему, но та прошла мимо него и остановилась перед Заломовым. И началось их бесконечное вальсирование. В полном одиночестве они кружились и кружились на блестящем паркете, и яркий круг белых передников бешено вращался в глазах Заломова. Он только молил Бога не запнуться и не опозориться. За все эти долгие две с половиной минуты Танечка не проронила ни слова и ни разу не взглянула на своего партнёра.
Казалось бы, столь яркий поступок Танечки, крайне нехарактерный для её скрытной, сдержанной натуры, говорил ярче слов, кому она отдаёт предпочтение, но этот вывод испугал обоих друзей. Сразу после того вальса они вышли в коридор, и Заломов поспешил восстановить прежний status quo.
– Юрка, она хочет, чтобы ты её возревновал.
– А какой в этом смысл?
– Чудак, это же классический женский приём. Так она пытается поднять градус твоей влюблённости.
– Куда уж выше?
– Юрка, ты же такой классный парень! Несомненно, она считает тебя сердцеедом и боится, что ты просто приволакиваешься за нею, чтобы увеличить список своих побед.
Удивительно, но такое сомнительное объяснение успокоило Юрку. И самое странное, в свою высосанную из пальца версию уверовал и сам Заломов.
Вот какие воспоминания оживили у Заломова строки из «Евгения Онегина». «Почему же тогда я не решился выяснить всё у самой Танечки?» – спросил он себя и услышал ответ своего второго Я: «Из её поведения в тот вечер и из бесчисленных ранее подмеченных мелочей ты знал, что она выбрала тебя. Но тогда в шестнадцать лет эта мысль тебя устрашила. Ты испугался последствий… и, пожалуй, поступил правильно». – «Ну, нет, – возразил Заломов, – это был мой первый малодушный поступок».
БОРЬБА РАЗУМА С ДРЕВНЕЙШИМ ИНСТИНКТОМ
Владислав вышел из Института, и ноги сами понесли его по лесной дорожке к школе для одарённых детей. Начиналось сибирское лето. Папоротник-орляк завершал развёртывание своих ажурных псевдолистьев. По узеньким тропкам шныряли птенцы дроздов-рябинников, уже достигшие размеров родителей, но ещё не растерявшие своей детской доверчивости. Летели на первое любовное свидание сотни только что вылупившихся из куколок боярышниц – крупных и неуклюжих белокрылых бабочек. Заломов поймал себя на мысли, что и ему сейчас, как любой из этих бабочек, не даёт покоя тот же зуд, тот же древнейший и потому необоримый инстинкт.
Впрочем, примитивный и грубый инстинкт, видимо, хорошо знал, что делал, ибо, как только Заломов подошёл к школе, случилось форменное чудо – парадная дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила Анна. Она легко сбежала по ступенькам на тротуар и, не взглянув в сторону Заломова, быстро пошла (как ему показалось, полетела) к своему дому.
– Анна! – хрипло позвал он, и сам не узнал своего голоса. Девушка резко остановилась. Пару секунд она смотрела на Заломова и молчала, и он молчал, наслаждаясь любованием ею. В голове его вертелись нечёткие противоречивые мысли: «Боже, как же она хороша! Интересно, она и на самом деле так хороша, или мне это только кажется? Неужели красота женщины – просто приманка для мужчины?» Он стряхнул с себя эти неуместные мысли и снова утонул в ярких и правильных чертах Анны. Как сквозь сладкий сон, как сквозь шум тёплого дождя донеслись до него её слова: «Влад? Вы? Как славно, что мы встретились! Я ужасно рада вас видеть. Как раз сегодня хотела вам звонить. Вы свободны?»
И не успел он ответить «да», как в голове его снова зазвучал внутренний голос: «Но зачем нужна естественному отбору именно такая форма носа, губ и бровей?» – «Действительно, зачем?» – мысленно добавил Заломов.
Возникшая пауза заставила Анну вопросительно взглянуть на него: «Чёрт возьми! Я прямым текстом спросила его, свободен ли он, а этот тип колеблется. Плохи мои дела!»
Ответ Заломова остановил беспорядочный поток её мыслей:
– Да, Анна, я свободен. Я вообще и абсолютно свободен.
– Влад, я иду домой. Если не возражаете, зайдёмте ко мне, немножко поболтаем, и я верну вам литературу, – голос Анны звучал ровно, но лицо её было напряжено.
– Мне ужасно нравится с вами беседовать, – ответил Заломов, не отрывая глаз от её рта, от белоснежных зубов, от полных, будто налитых любовным призывом алых губ. Он был счастлив. Он снова не менее часа будет наслаждаться её обществом.
Комната Анны поразила Заломова беспорядком. Оба стола – и письменный, и журнальный – были завалены книгами, журналами и оттисками статей. Исписанные листы валялись повсюду, даже на полу возле кресел. Было ясно, что едва ли в последнее время сюда заглядывали посторонние, – всё здесь было подчинено интересам одной лишь хозяйки. Это понравилось Заломову, ибо вселяло надежду на отсутствие соперников.
– Извините за ужасный кавардак, но иначе не могу работать. Мне нужно, чтобы одновременно было раскрыто как можно больше интересных мест, – оправдывалась Анна.
– Вижу, вы изрядно потрудились.
– Не беспокойтесь, я быстро наведу порядок.
С этими словами Анна с превеликой ловкостью собрала книги и прочее в большую стопу и водрузила её на письменный стол. Через несколько минут они уже сидели в креслах напротив друг друга и попивали не слишком качественный, но зато настоящий натуральный кофе.
– Влад, – приступила Анна к содержательной части беседы, – я прочла практически всё, что вы мне дали, и даже кое-что сверх того и теперь хочу задать вам несколько вопросов. Впрочем, по сути, меня волнует всего лишь один вопрос.
– Ради бога.
– Хорошо известно, – заговорила Анна слегка дрожащим голосом, – что обитатели подземных пещер – насекомые, рачки, рыбы – часто лишены глаз, хотя их ближайшие сородичи из освещённого мира обладают превосходным зрением. Объяснить это можно так. Представим, что в некой горной местности протекает речка, в которой живут рыбки с крупными зоркими глазами. Но вдруг происходит землетрясение, и речка вместе с её обитателями проваливается под землю. Теперь она течёт по обширной многокилометровой пещере, куда не проникает ни одного фотона солнечного света. Впрочем, рыбки находят и там какой-то корм, так что их жизнь продолжается, и в их генах продолжают возникать мутации, которые должны удаляться естественным отбором. Однако в полной темноте ряд мутаций не удаляется. Дело в то, что теперь естественный отбор не отличает зрячих рыбок от слепых, и потому ничто не мешает несчастным пещерным рыбкам накапливать и накапливать мутации, нарушающие развитие глаз. Длительное сохранение такого положения вещей приведёт в конце концов к печальному финалу – от крупных и зорких глаз бедных рыбок останутся лишь две едва заметные ямки. Влад, я правильно описала суть этого жуткого процесса?
– В целом, да.
– Ну, слава богу, – Анна облегчённо вздохнула, – и вот мой первый вопрос: какова дальнейшая судьба генов, ставших бесполезными в абсолютно тёмной пещере?
– Со временем они будут полностью разрушены мутациями и превратятся в ДНК, лишённую генетической информации, в так называемый ДНК-овый хлам.
– Отлично. А теперь перейду к моему главному вопросу. Допустим, что какой-то вид-счастливчик попал в ужасно благоприятные условия, где много пищи и совсем нет врагов. Вопрос: что будет с генами такого счастливчика? – тёмные глаза Анны смотрели на Заломова твёрдо и серьёзно.
– В этом случае все гены, нужные для поиска пищи и защиты от врагов, став излишними, выйдут из-под контроля естественного отбора, и тогда безжалостные мутации примутся их разрушать. В итоге, немалая часть генов вашего «счастливчика» довольно скоро отправится на генное кладбище.
– Знаете, я тоже пришла к такому выводу, но он показался мне слишком уж мрачным. А что значит «довольно скоро»?
– От одного до десяти миллионов лет. По эволюционным меркам, это не очень длинный отрезок времени.
– Да, конечно, – с мрачноватой улыбкой согласилась Анна.
Тут Заломов рассмеялся и попытался сострить.
– Рай для организма – это ад для его генов.
– Кошмар! – прошептала Анна и добавила громко и вызывающе: – Влад, а не кажется ли вам, что мы, то есть наш вид Homo sapiens, уже на пути к такому адскому раю?
Эти слова заставили Заломова вздрогнуть.
– Действительно, – произнёс он слегка упавшим голосом, – современное человечество во многом напоминает ваш вид-счастливчик, попавший в райский сад, наполненный пищей и защищённый от хищников. С прогрессом сельского хозяйства еды становится всё больше, а медицина близка к искоренению практически всех патогенных видов. Численность людей уже достигла пяти миллиардов, где там остальным крупным обезьянам тягаться с нами.
– Но и безжалостные мутации не дремлют, – усмехнулась Анна. – Во что же превратятся со временем наши гены? Или, быть может, они уже во что-то превратились? – тёмные расширенные глаза Анны обжигали Заломова, мешая ему сосредоточиться на проблеме.
– Ну, нет. Пожалуй, ещё нет, – ответил он, и его внезапно воспрянувший внутренний голос мрачно повторил слово, произнесённое незадолго до того Анной, – «Кошмар!»
Вопрос был исчерпан. Анна расслабилась и откинулась на спинку кресла, а Заломов ушёл в свои мысли: «Как парадоксальна участь естествоиспытателя! Он постоянно гонит из природы сладкое одухотворённое начало, чтобы обрести взамен холодную красоту бездушной истины. Ну а в конечном счёте почему-то получает печаль. Воистину прав был библейский Экклезиаст: «Во многом знании много печали, и кто умножает своё знание, умножает свою скорбь».
Грустное лицо гостя заставило Анну сменить тему.
– Ну, хватит о науке! – воскликнула она, и в её глазах вспыхнули озорные огоньки. – Не так давно имела счастье присутствовать на выступлении доктора Кедрина перед моими учениками. В течение сорока минут вундеркинды напряжённо следили за ходом мысли настоящего учёного. Это был воистину художественный монолог на тему генной регуляции у бактерий. Одет Аркадий Павлович был с иголочки: белейшая рубашка, добротный пиджак шоколадного цвета из какой-то импортной немнущейся ткани, вельветовые джинсы цвета кофе с молоком и начищенные до блеска, ужасно красивые импортные башмаки цвета какао и опять же с молоком.
– Ну и цвета! – засмеялся Заломов, – честно сказать, я уже и позабыл, как выглядит это упомянутое вами какао с молоком.
– Да никаких проблем! Сейчас вспомните! – рассмеялась Анна и выбежала на кухню.
«Удивительная девушка, – подумал Владислав, – какое редкое сочетание ума и красоты, да ещё и готовить умеет. Не слишком ли много добродетелей для одного человека? Странно, что я ничего не знаю о её поклонниках. Где она их прячет? У такого совершенства не может не быть поклонников».
Через несколько минут она вернулась, неся на подносе чашечки с какао, а ещё через минуту Заломов с удовольствием слушал продолжение её рассказа.
– Итак, – весело защебетала Анна, – вернёмся к нашим сплетням. Говорил Аркадий Павлович так выразительно и так мощно, что аж стены дрожали. Правда, временами он поворачивался к окну и замолкал, выдерживая театральную паузу. Мне кажется, он хотел, чтобы мы могли всласть налюбоваться его великолепным профилем. Все девочки стонали от восторга. Об адекватном восприятии этой ужасно умной лекции, естественно, не могло быть и речи. Одни научные термины вперемежку с именами учёных, о которых и я не слыхивала. Впрочем, наверное, было не так уж важно, о чём он говорил, главное – КАК он говорил. – Несколько секунд Анна молчала, глядя в окно, и неожиданно добавила: – А между прочим, Аркадий Павлович уже много лет живёт один в крупногабаритной двухкомнатной квартире на Академическом. Говорят, развёлся через пару месяцев после женитьбы. Интересно, кто же стирает ему рубашки и гладит брюки?
Анна снова помолчала, потом тряхнула головой, будто отгоняя назойливую муху, и вернулась к своему рассказу:
– После урока Аркадий Павлович подошёл ко мне и попросил воды. Я провела его в учительскую. Он сел в кресло и, утолив жажду, с видимым удовольствием закурил. Меня малость удивило, как дрожит шикарная импортная сигарета в его длинных тонких пальцах. Интересно, в каком столе заказов достаёт он такие потрясные сигареты? Аркадий Павлович повернулся ко мне в профиль и посетовал, что не успел рассказать детям всё, что хотел; что звонок зазвонил неожиданно рано, когда он только подходил к самому главному. Он, дескать, привык к двухчасовым лекциям в университете и потому не смог приспособиться к короткому школьному уроку. И представьте, прощаясь, Аркадий Павлович пригласил меня заходить к нему в лабораторию; дескать, он с удовольствием поможет, чем сможет.
Заломову надо было уходить, но ему так хотелось говорить и говорить с нею, смотреть и смотреть в её тёмные миндалевидные глаза, скользить взглядом по её лицу, шее, вырезу платья на груди, по матовой белизне оголённых рук. Внезапно им овладело сладкое и жуткое чувство отчаянной смелости, вроде той, что он испытал в ранней юности, когда впервые прыгал в свою любимую речку с перил горбатого мостика. Вот и теперь в голове его будто что-то оборвалось, и сквозь гул напряжённых нервов он услышал свой дерзкий вопрос:
– Анна, извините за бестактность, ваше сердце свободно? – девушка вскинула на него округлившиеся от удивления глаза и улыбнулась. Но вскоре её лицо снова стало серьёзным, и пришедший в себя Заломов испугался, что сейчас она как-нибудь обидно отошьёт его, да и внутренний голос его внезапно очнулся и успел прошипеть: «Этот твой вопрос – страшная ошибка». По прихоти воображения Заломов ощутил себя сидящим в зубоврачебном кресле. Он вцепился в подлокотники и приготовился к худшему, однако вместо грубости, вместо язвительного смеха, вместо холодного назидания услышал уклончивый, но вполне корректный ответ:
– Влад, не буду скрывать, в Томске мне нравился один человек, но …– по лицу Анны пробежала волна страдания, и она продолжила, кривясь будто от боли, – но теперь я, похоже, освободилась от той напасти.
– Простите, Анна, что ненароком затронул болезненную для вас тему.
– Ладно, Влад, не извиняйтесь. Что было – то прошло. Надеюсь, я дала вам ответ, – она подняла на Заломова повлажневшие глаза, в которых читалась целая гамма чувств – от тоски до нежности.
Реакцию Заломова едва ли можно было назвать адекватной. После изрядной паузы, потраченной на разглядывание рисунка напольного линолеума, он просипел:
– Анна, я должен идти. Надеюсь, мы ещё встретимся?
Её глаза на миг вспыхнули то ли от удивления, то ли от возмущения. Но ответила она холодно, пожалуй, даже слишком холодно:
– Всё возможно, Владислав Евгеньич. Когда-нибудь непременно встретимся, а учитывая малую величину населённого пункта, выбранного нами для проживания, наша встреча может произойти довольно скоро.
СПОР О ПОЯВЛЕНИИ НА ЗЕМЛЕ РАЗУМА
Вечером того же дня в заломовский кабинетик на нулевом этаже заглянули Демьян и Лёха Стукалов. Хозяин предложил гостям чаю, и они не отказались. Но нужно было о чём-то говорить.
– А кстати, ребята, вы не знаете, чем заняты молодые люди из комнаты 012? – попробовал начать разговор Заломов.
– Там работает Витька Майстрыкин со своим дипломником Максимом Рахимовым. Им надо вкалывать, потому что у Витьки кончается аспирантура, – ответил Демьян.
– Так всё-таки, чем же они занимаются? – повторил вопрос Заломов.
– Выделяют из разных тканей крыс материал хромосом и следят, как с возрастом меняется его белковый состав.
– Ты бы, Дёмка, ещё добавил, что они научились те белки фракционировать, и что их работой заинтересовались на Западе, – вмешался Лёха Стукалов.
– Подумаешь, – фыркнул Демьян, – эка заслуга фракционировать да описывать, а после статейки пописывать. Вот если б они могли тво-о-рить?
Произнеся нараспев последнее слово, Демьян взглянул на потолок и придал своему лицу одухотворённое выражение.
– Как ты с Кедриным, что ли? – подкузьмил приятеля Лёха и привычно медленно растянул свои губы в добродушную улыбку.
– Да! Хотя бы как мы, – огрызнулся Демьян.
– Интере-е-сно, – протянул Заломов, – и много у вас таких?
– Да хватает, – ответил Демьян, – особенно среди аспирантов. Ведь у них, как говорит мой шеф, «тикают часы».
– Понятно. Ну, а если эти ребята такие активные, то что ж они с трибун не выступают? – спросил Заломов, вспомнив Учёный совет.
– Ну, ты даёшь! – возмутился Демьян. – Ты, Слава, прямо как с луны к нам свалился. Ты что? ещё не раскумекал, что в Институте имеет место быть чёткое и вполне справедливое разделение труда? – Молодёжь вкалывает, а мэтры выступают на собраниях и руководят. Как говорит мой шеф, «умоводят» нами. У каждого мэтра есть свои люди из молодых. Например, я человек Аркадия Павловича, а вы с Лёхой – людишки Егора Петровича. Такой вот у нас, Слава, чёткий расклад.
– Ясно, – невыразительно буркнул Заломов и обвёл вопросительным взглядом своих гостей: – Ну и что же вы хотели со мной обсудить?
Однако Стукалов преспокойно курил, удобно расположившись в глубоком кресле, и не проявлял никакого желания говорить. Зато глаза Демьяна подозрительно засверкали.
– Слава, скажи, что тебя больше всего интересует в биологии? – задал он свой наверняка заранее заготовленный вопрос.
– Проблема возникновения интеллекта, – не моргнув глазом, ответил Заломов.
– Вообще-то, я не понял. Как это возникновения?
По всему было видно: Демьян жаждет крови.
– Возникновения в ходе эволюции, – спокойно уточнил Заломов.
– Интересно знать, и как же наш интеллект мог бы возникнуть в ходе твоей эволюции? – на румяном лице Демьяна заиграла хитрая улыбка человека, знающего правильный ответ и также знающего, что собеседник найти тот ответ не сумеет.
– Ясное дело, с помощью естественного отбора, – ответил Заломов.
– То бишь путём закрепления полезных и едва заметных наследуемых уклонений? – расставлял Демьян какие-то хитрые, лишь ему известные, логические ловушки.
– Именно так, – старательно сохраняя спокойствие, согласился Заломов.
– Но тогда ответь-ка нам, дорогой Слава, куда же подевались все промежуточные звенья? Где скрываются те многочисленные слегка разумные, полуразумные и почти неразумные недочеловечки? Да разве ты не видишь, Слава, что, вообще-то говоря, имеет место быть зияющая и бездоннейшая пропасть между нами и животным миром?! – продолжал давить Демьян.
– Ты хочешь сказать, что разумны лишь мы и ни один другой зоологический вид, обитающий в данный момент на Земле?
Демьян было поморщился от слова «зоологический», но в бутылку не полез.
– Да! Только в нас влит свет разума, – провещал он с пафосом.
– Дёма, поясни, пожалуйста, свою мысль, не прибегая к метафорам, – потребовал Заломов.
– Изволь, – зеленоватые глаза Демьяна одухотворённо вспыхнули, – если из всех миллионов видов живых существ, обитающих и обитавших на земном шаре, лишь только человек разумен, так значит, приобрёл он свой разум единожды и одним махом. По Дарвину, такое невозможно, в принципе. Стало быть, данную грандиозную трансформацию мог свершить лишь Тот, кто над нами. Тот, кого мой шеф любит называть Демиургом. Это Он влил в нас разум, чтобы мы могли постичь Его бытие и Его творческий замысел.
– Но ты же должен знать, что разрыв между нами и человекообразными обезьянами дарвинизм объясняет вымиранием промежуточных форм, – привёл Заломов стандартный контраргумент.
– Уж не полагаешь ли ты, Слава, что все те вымершие виды были разумны? – с презрительной улыбкой спросил Демьян.
– Все вымершие представители нашего рода Homo, даже самые примитивные, изготовляли орудия для охоты и разделки добычи, значит, какие-то зачатки мышления у них, скорее всего, имелись, – заглотил Заломов одну из Демьяновых приманок.
– Но ведь они не умели разговаривать. Даже неандерталец, самый из них продвинутый, не был наделён даром членораздельной речи, – в голосе Демьяна зазвучали победные нотки.
– Во-первых, строго это не доказано, – не сдавался Заломов, – а во-вторых, чтобы быть разумным, необязательно разговаривать, вспомни о глухонемых. Неандертальцы пользовались огнём, и их увесистые ручные каменные топоры вполне соответствовали своему назначению, хотя они и кажутся нам ужасно грубыми и ужасно некрасивыми. И кстати, мозг неандертальцев был даже чуточку крупнее нашего.
– Ну, а если все эти недочеловеки были такими умными, то чего ж они вымерли? – наконец привёл Демьян свой самый мощный аргумент и взглянул на Лёху с выражением лица, говорящим: «Вишь, как надо его бить».
– Вот тут-то, Дёма, мы, кажется, и добрались до главного, – Заломов явно переходил в контратаку. – Интеллект – это не гарантия для выживания в любых условиях. Усиление интеллекта – лишь один из многих способов повысить приспособленность. Очень неплохой способ, но далеко не единственный. Посмотри: орангутаны – самые сильные и самые умные обезьяны индонезийских островов – на грани исчезновения. Ещё хуже дело обстоит с горной гориллой – менее тысячи особей – а ведь едва ли найдётся в Африке вторая зверюга с таким выигрышным сочетанием ума и грубой физической силы. А вот «глупый» африканский леопард до сих пор процветает, охотясь на «умных» обезьян.
– И всё-таки мне трудно представить что-нибудь более эффективное, чем человеческая изобретательность, чем дикарская хитрость, – несколько театрально произнёс Демьян.
– Тогда, Дёма, забирайся в африканскую саванну, ставь там палатку из подручных материалов и отправляйся с деревянным копьём на охоту. Боюсь, скорее ты помрёшь с голоду в «той степи глухой», кишащей съедобным зверьём, чем заколешь хоть одну антилопу гну. Прости за невольный стих.
В этот момент Лёха Стукалов захохотал, то есть сильно задышал, и его массивная нижняя челюсть пришла в мерное колебательное движение.
– Именно в данном весьма незначительном пункте, может быть, ты и прав, но нельзя же так вот с бухты-барахты вырвать меня из общества цивилизованных людей, – проворчал Демьян.
– А почему нельзя, Дёма? Ведь твой могучий разум будет при тебе, но как видишь, одного его маловато, – спокойно возразил Заломов.
– Ну, знаешь ли, уж больно ты скор. Ясно, что нужны ещё знания о способах охоты и много других знаний, – стал оправдываться Демьян.
– Которые были накоплены многими поколениями наших далёких предков в их суровой борьбе за жизнь, – мгновенно отпарировал Заломов. – Заметь, каким жалким существованием обеспечивал первобытных людей их божественный разум в течение бесконечно долгих тысячелетий. Подумай о бесчисленных паразитах, о постоянной угрозе голода, о необходимости спать, где придётся, рискуя попасться в лапы львов и леопардов. Ответь мне, Дёма, почему люди так прискорбно долго оставались безграмотными дикарями? Что им мешало, по меньшей мере, на тридцать тысяч лет раньше, приступить к выращиванию пшеницы, лепке горшков и созданию письменности?
Заломов явно стремился сокрушить противника, но никогда не сдающийся Демьян снова прибег ко всеспасительному аргументу:
– Дорогой Слава, нам не дано постичь всей глубины божественного промысла. Вероятно, Творец, внимательно следил за жизнью первобытных людей и, видя их страдания, временами сообщал им какие-то важные знания.
– Вот и получается, дорогой Дёма, – заговорил Заломов тоном теледиктора, читающего правительственную ноту, – что нашего сверхмощного разума самого по себе маловато. Нужно ещё вдувать в него в нужные моменты нужные знания. И странно, почему Творец вдувал дополнительные знания в головы далеко не всех народов. Почему он оставил прозябать в дикости, грязи и убожестве несчастных аборигенов Австралии, Амазонии, Тасмании, Суматры, Новой Гвинеи, Таймыра, Камчатки и прочих многочисленнейших миров, затерянных за морями, горами, лесами и снегами? Поведай мне, Дёма, чем же перечисленные мною дети природы не потрафили твоему Демиургу-Пантократору? Али они не страдали? Али грешили больше европейцев и китайцев?

