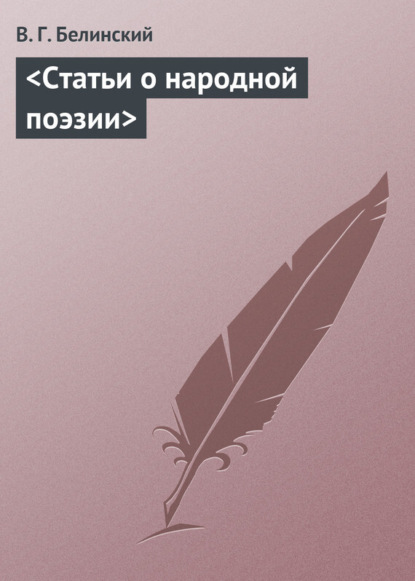 Полная версия
Полная версияСтатьи о народной поэзии
В этой поэме ощутительно присутствие идеи: она есть поэтическая апофеоза Новагорода, как торговой общины! Садко выражает собою бесконечную силу, бесконечную удаль; но эта сила и удаль основаны на бесконечных денежных средствах, приобретение которых возможно только в торговой общине. Русский человек во всем удал и во всем любит хвастнуть своею удалью. У нас и теперь всякий проживает вдвое больше того, что получает: исключения редки{167}. В этом отношении русские – совершенный контраст с немцами. Садко выкупает товары в Новегороде не по расчету, не по нужде, а потому что он расходился и ему море по колено. Он хочет насладиться чувством своего золотого могущества: черта чисто русская! Русский человек любит похвастаться чем бог послал: и кулаком, и плечами, и речами, и безрассудною удалью, которая может стоить ему жизни. Что же до денег – известное дело, что у него последняя копейка ребром. Копит он иногда деньгу целый год, живет скрягой, во всем себе отказывает – и для чего все это? – чтоб под веселый час все разом спустить. Когда расходится, – он добр и тороват: вали к нему на двор званый и незваный, пей и ешь сколько душе угодно; нейдет в душу, – лей и бросай на пол. Тут он уже и не торгуется – дает без счету, сколько руки захватили; а завтра – хорошо, если осталось, чем опохмелиться{168}, и на пищу святого Антония, не жалея, не раскаиваясь, без вздохов и охов – до нового праздника… Конечно, в этом есть нечто дикое, если хотите, но в форме, а не в сущности: в сущности это – черта благородная, признак души сильной, широко разметывающейся.
Но Садко обязан своим богатством не себе, а Волге да Ильменю, да Новугороду Великому. Волга прислала с ним поклон брату своему Ильменю; Ильмень разговаривает с Садкою в виде удалого доброго молодца; это олицетворение имеет великий смысл: реки и озера судоходные – божества торговых народов. Превращение рыбы в деньги – тоже не без смысла: это язык поэзии, выразивший собою прозаическое понятие о выгодном торговом обороте. Садко выкупил все товары в Новегороде; остались только битые горшки – и те надо скупить: пусть играют ребятишки да поминают Садку гостя богатого. Новгород унижен, оскорблен, опозорен в своем торговом могуществе и величии: частный человек скупил все его товары, и все остался богат, а товаров больше нет… Но этот Садко стал так богат благодаря Новугороду же, – и потому пусть ребятишки играют битыми черепками да поминают Садку гостя богатого, что не Садко богат – богат Новгород всякими товарами заморскими и теми черепанами, гнилыми горшки…
Итак, Садко велик и полон поэзии не сам по себе, но как один из представителей Великого Новагорода, в котором всего много, все есть – от драгоценнейших заморских товаров до битых черепков. Последние слова, выставленные нами курсивом, удивительно замыкают собою поэму, дают ей какое-то художественное единство и полноту, делают осязательно ясною скрытую в ней идею. Вся поэма проникнута необыкновенным одушевлением и полна поэзии. Это один из перлов русской народной поэзии.
Последняя новогородская поэма едва ли уступает в поэтическом достоинстве этой{169}. Можно сказать утвердительно, что, уступая ей с одной стороны, она превосходит ее с другой. В ней опять два героя: один видимый – Садко, другой невидимый – Новгород, но уже не сам собою, а своими божествами-покровителями – морями, озерами и реками, особенно тою, которая поила его из своих берегов. Все эти моря, озера и реки олицетворены в поэме и являются поэтическими личностями, что придает поэме какой-то фантастический характер, столь вообще чуждый русской поэзии, и тем более поразительный в этой поэме.
* * *Плывут по синему морю тридцать кораблей, един сокол-корабль самого Садки, гостя богатого. Все корабли что соколы летят, а сокол Садкин корабль на море стоит. Садко велит своим ярыжкам, людям наемныим, подначальныим, резать жеребья валжены и бросить их на сине море, которы-де поверху плывут, а и те бы душеньки правые, и которы в море тонут, тех-то спихнемде мы во сине море. Садко кинул хмелево перо с своею подписью: а все жеребья по морю плывут, кабы яры гоголи по заводям; един жеребий во море тонет – в море тонет хмелево перо самого Садки гостя богатого. Садко велит резать жеребьи ветляные; которы-де жеребьи потонут, а и то бы душеньки правые. Сам он бросает жеребий булатный в десять пуд. И все жеребьи во море тонут, един жеребий поверху плывет – самого Садки гостя богатого. Говорит тут Садко-купец богатый гость: «Вы ярыжки, люди наемные, а наемны люди подначальные! Я Сад-Садко знаю-ведаю: бегаю по морю двенадцать лет, тому царю заморскому не платил я дани-пошлины, и во то сине море Хвалынское хлеба с солью не опускивал, – по меня Садку смерть пришла. И вы, купцы, гости богатые, а вы целовальники любимые, а и все приказчики хорошие, принесите шубу соболиную». И скоро Садко наряжается, берет он гусли звончаты со хороши струны золоты, и берет он шахматницу золоту со золоты тавлеями. На золотой шахматнице поплыл Садко по синю морю. Все корабли по морю пошли, и Садкин корабль что кречет бел летит. Отца, матери молитвы великие, самого Садки гостя богатого: подымалася погода тихая, прибила Садку к крутому берегу. Пошел Садко подле синя моря, нашел он избу великую, а избу великую – во все дерево, нашел он двери – и в избу вошел. И лежит на лавке царь морской: «А и гой еси, ты купец, богатый гость! А что душа радела, того бог мне дал, и ждал Садку двенадцать лет, а ныне Садко головой пришел; поиграй Садко в гусли ты звончаты». Стал Садко царя тешити, а царь морской зачал скакать, плясать; и того Садку напоил питьями разными – развалялся Садко, и пьян он стал, и уснул Садко купец, богатый гость. А во сне пришел святитель Николай к нему, говорит ему таковы слова: «Гой еси, ты Садко купец, богатый гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты гусли звончаты: расплясался у тебя царь морской, а сине море всколебалося, а и быстры реки разливалися, топят много бусы, корабли, топят души напрасные того народу православного». Бросил Садко гусли звончаты, изорвал струны золоты; перестал царь морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли реки быстрые. Поутру царь морской стал уговаривать Садку женитися и привел ему тридцать девиц; а Никола ему во сне наказывал, чтоб не выбирал он хорошей, белыя, румяныя, а взял бы девушку поваренную, котора хуже всех. Садко думался, не продумался, и взял девушку поваренную; царь морской положил Садку с новобрачного в подклете спать, а Никола святой во сне Садке наказывал не обнимать и не целовать жены. С молодой женой Садко на подклете спит, свои рученьки ко сердцу прижал; со полуночи ногу леву накинул он впросоньи на молоду жену; ото сна Садко пробуждался; он очутился под Новым городом, а левая нога на Волх-реке…
Взглянул Садко на Новгород, узнал он церкву, приход свой, того Николу Можайского, перекрестился он крестом своим. И глядит Садко по Волх-реке: от того синя моря Хвалынского, по славной матушке Волх-реке, бегут, побегут тридцать кораблей, един корабль самого Садки гостя богатого. И встречает Садко-купец, богатый гость целовальников любимыих, и со всех кораблей в таможню положил казны своей сорок тысячей – по три дни не осматривали.
* * *Кто бы ожидал такой развязки от левой ноги?.. Какая широкая, размашистая фантазия! А пляска морского царя, от которой само море всколебалося, а и быстры реки разливалися!.. Да, это не сухие, аллегорические и реторические олицетворения: это живые образы идей, это поэтическое олицетворение покровительных для торговой общины водяных божеств, это поэтическая мифология Новагорода, которая в тысячу раз лучше религиозной славянской мифологии с ее семью дрянными богами!.. Замечательная черта характера русского человека видна в хитростях Садки, чтоб отделаться от наказания: видя, что его хмельное перо потонуло, он предлагает новую пробу, наоборот; но когда он видит, что его булатный жеребий в десять пуд поплыл поверх воды, а ветляные жеребьи товарищей потонули, – то уже более не отвертывается, но, по-русски, бросается страху прямо в глаза, со всею решимостию, отвагою и удалью…
* * *Есть еще новогородское сказание, но то уже не поэма, а сказка, в которой новогородского – только герой. Мы говорим об «Акундине», помещенном в первой части «Русских народных сказок», изданных г. Сахаровым{170}. Так как мы теперь, кончив весь цикл богатырских поэм, должны сказать что-нибудь и о сказках, – то кстати перейти прямо к «Акундину». На этот раз мы ограничимся только общею характеристикою, не пускаясь в подробности. Акундин – богатырь в сказочном роде. Жил он в старом Новегороде, а был со посадской стороны, со торговой, – ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу торговал; а– ходил он, Акундин, со повольницей и гулял по Волге по реке на суденышках. Понаскучило ему, Акундину, повольницу водить; вот и думает Акундин: кабы ему до Киева дойти, в Москве побывать. Сел он на суденышко и поплыл по Волге-реке, через тридцать три дня увидел себя у крута бережка. Навстречу ему попался калечище перехожий, он спрашивает у него: что то за сторона, что за город? И узнает Акундин от калечища, что «сторона та широкая, что от Оки-реки потягла до Дону глубокого, зовут Рязанью, а правит тою стороной стольный князь Олег; и что город-то поселен по Оке-реке, то зовут Ростиславль, а на столе княжит рязанского роду князь молодой Глеб Олегович». Акундин призадумался, да и сказал себе невзначай: «А кабы ту широкую сторону Рязань и с молодым князем Глебом Олеговичем и со всеми его исконными слугами покорить Новугороду». Здесь виден новгородец, член вольной и торговой общины, который все относит к своей родине и о ее выгодах заботится, как о своих собственных. Слушая Акундина, калечище думает: «Не корыстна сторона для Новагорода! кабы Рязань не полонили злые татарове, да не обложили данью великою, постояла б Рязань за себя. Да и Рязань не та чета Новугороду»{171}.
Калечище показывает Акундину, что на Оке плывет чудовище невиданное – Змей Тугарин. Длиною-то был тот Змей Туггрин в триста сажень, хвостом бьет рать рязанскую, спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань. Разгорелось богатырское сердце у Акундина: хочет он сражаться с Змеем за Рязань. Калечище, узнав о роде-племени Акундина, снимал с себя платье перехожее, надевал платье посадничье и называется Замятнею Путятичем, дядею Акундина: брат его, отец Акундина, был посадским в Новегороде, и невзлюбили его люди новогородские – вишь, правил ими не так, и порешили сгубить с родом, с племенем, сокрушили его со всем домом; а Замятия Путятич пошел в Киев, и с той-де поры во тоске, во кручине, горе-гореваньицем качу, свое милое детище (Акундина) дожидаючи. Но каким образом, дожидаясь в Киеве, увиделся он с племянником на Оке – бог весть…{172} Не помолвивши речи вестные, стал Замятия Путятич кончатися, со белым светом расставатися:)видно на роду ему, братцы, так написано, что довелось посередь поля переставиться!.. Как стал Замятия Путятич со белым светом расставатися и учал отповедь чинить: «А и гой еси ты, мое милое детище, Акундин Акундинович! как и будешь ты во славном во Новегороде, и ты ударь челом ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: «И дай же то ты, боже! тебе ли, Новугороду, век вековать, твоим ли детушкам славы добывать! Как и быть ли тебе, Новугороду, во могучестве, а твоим ли детушкам во богачестве!..»
Какая поэтическая и умилительная картина любви к родине со стороны оскорбленного ею сына!.. Сколько простодушия, чувства, любви, бесконечного стремления и порывания выражаются в простых, но глубоко поэтических словах умирающего гражданина Великого Новагорода! Последняя мысль, последнее слово изгнанника – благословение неправой, но все милой родине!.. Да, это поэзия! Тут есть мысль – и мысль глубокая!..
Глеб Олегович женится, а Змей Тугарин грозит потопить Ростиславль. Старый посадник Юрья Никитич дает совет князю – послать послов к Тугарину. Змею понравилось смирение князя; он вступил в переговоры, принимал от послов хлеб-соль и съедал за единый раз. Послы говорили, что мир готовы урядить, а дани не ведают за собою никакой. Змей называет их смердами Ростиславичами и ссылается на записи. Хитрый старый дьяк Чеботок развернул записи поручные и свел по ним, что долгу нет. Змей требует мешка золота за Ростиславичей, мешка серебра за отцов их и мешка каменьев самоцветных за дедов; иначе грозит затопить город, а жен в Орду продать. Здесь Змей Тугарин – ясно апофеоза татар, обыкновенно делавших набеги свои из-за Оки, и прежде всего опустошивших Рязанское княжество. Хитрый дьяк Чеботок просит у Тугарина мешков и, получив, думает их сжечь: без мешков-де не во что будет и дани собирать. Но посадский Юрья Никитич думает иначе: ему жаль золотой казны княжеской, и он напустил на дьяка Чеботка: «А постой ты, дьяк! А и погоди ты, дьяк! А ты-то, дьяк, злой еретик, заодно с Тугариным держишься еретичества. А и знаю я, как тебя изнять, а и знаю я, как тебя со бела света согнать!» Взял да и посадил дьяка в мешки, да и послал к Змею. И он, дьяк Чеботок, на ту пору догадлив был: давай мешки глодать, свету божьего искать; как проедал он един мешок, два зуба сломал; как проедал он второй мешок, три зуба сломал; как проедал он третий мешок, все пять сломал. И начал дьяк Тугарину всю вину на посадника слагать, что жаль ему золотой казны княжеской. И стал Тугарин пытать дьяка, сколько-де у князя золотой казны, каменьев самоцветных и силы ратной. «А и право скажу, ничего не утаю: лишь, дядюшка, окунись в Оку, да достань белосыпучего песку». Змей достал и подал дьяку, а дьяк учал бегать по полю, утекаючи к городу, крича: «А и вот какова сила ратная у молода князя Глеба Олеговича!» И туто Тугарин догадался, что дьяку в обман дался, а догадавшись, давай Оку-реку гонять, город Ростиславль затоплять. А дьяк, пришедши в город, объявил князю, что Змей готов на мир, да только хочет переговоры вести с одним посадником Юрьем Никитичем. И тому-то старый посадник веру имал. А и не знал он, старый посадник, что дьяк-то его избывал. Да и дьяку ли веру имать? И волчья снасть у дьяка на зубах; пулы берет, на суды сыды (?) ведет. Змей почел посадника за дьяка, в другоряд в обман не хотел даться, и туто его, старого посадника, съел за един раз. И дьяк Чеботок на ту пору догадлив был: он, злодей, в воротах за старичища стоял, да на стара посадника смотрел. Как-де завидел он, дьяк, что Змей Тугарин стара посадника съел, то и давай кричать: «Ай, батюшки, беда! Ай, родимые, беда! Не стало нашего посадника, Юрья Микитича, на белом свете. Уж его ли, родимого, Змей Тугарин съел. А что мы, сироты, будем без него!» И его дьячьи слова скоро до князя дошли; а никто про то во городе не ведает, а никто про то не узнает, что то дьячья стряпня, стара дьяка Чобота.
Этот интересный эпизод о хитрых проделках дьяка Чобота показывает, что поэзия иногда лучше всех летописей может быть историческим фактом{173}. Дьяки Чоботы мало изменились с тех пор…
Князь Глеб собирает войско, идет на Тугарина, попадает ему стрелою в правый глаз; но рязанцам скоро стало не в мочь. Тогда Акундин напустился на Змея Тугарина и убил его. Князь Глеб одарил его шубою соболиною, гривною золотою, а князья и бояре повели его, Акундина, под белые руки во гридницы княженецкие, сажали за столы дубовые, за скатерти браные, за ества сахарные, прошали хлеба-соли покушать, белыих лебедей рушить. Князь оставлял его у себя, жаловал боярством, давал усадьбище немалое, палаты посадничьи. Но Акундин от всего отказывался и поехал на своем суденышке оснащенном в Киевград. Доехав до Мурома, он узнал, что татары полонили много народу из Мурома и дочь воеводы муромского, Настасью Ивановну. Акундину стало жаль добрых муромцев, а жальчей того (дочь) воеводы муромского. Он отправился на своем суденышке в Орду немирную, перебил ее всю до одного человека, и выручил из полону Настасью Ивановну, и отправил ее вперед в Муром с молодым боярином Замятнею Микитичем, который ходил с ним в Орду из Мурома. На дороге ему попалась другая Орда – он и ту изрубил. Приехал в Муром, а там свадьба: Настасья Ивановна выходит за Замятию Микитича. Воевода говорит Акундину: «А и думали мы, что тебя в живых не стало; за твои услуги великие награжу я тебя золотой казной, а на нашей лебедушке не погневайся». Уезжая, Акундин слово молвил: «Не дай же то, боже, вовек в Муроме бывать, того воеводу муромского видать; а и его-то, воеводины, слова перелетные – на посулях висят». Неждан Иванович за то слово велит слугам гнать его вон со двора: «А и он ли, невежа, деревенский мужик, смел свататься за боярску дочь». Но Акундин уж был далеко. В Киеве он угостил и оделил золотой казной сорок калик с каликою, и один из них сказал ему таково слово: «За твою хлеб-соль великую, за твой канун варен, поведаю твою судьбинушку: тебе ли, доброму молодцу, на роду счастье написано – женитися на молодой вдове во чужом городу. Не умел ты, добрый молодец, изловить белую лебедушку, так сумей же ты, добрый молодец, достать серу утицу». Акундин идет в Муром, застает там Настасью Ивановну вдовою и женится на ней.
Эта сказка – целый роман; мы выжали из нее, так сказать, один сок и опустили множество подробностей, превосходно характеризующих общественный и семейный быт древней Русн. В этом отношении сказка «Акундин» имеет даже исторический интерес – и г. Сахаров{174} заслуживает особенную благодарность за спасение от забвения этого во всех отношениях любопытнейшего факта русской народной поэзии, русского духа и русского быта{175}.
Мы не будем пересказывать содержания других сказок в сборнике г. Сахарова: все они, исключая «Акундина» и «Семи Семионов» – те же самые поэмы, которые уже рассказаны и разобраны нами в предыдущей статье:{176} разница, как мы заметили там же, состоит только в некоторых подробностях, в несколько особенной (сказочной) манере, а главное – в том, что сказка объемлет собою всю жизнь героя, от рождения до смерти, и, следовательно, заключает в себе содержание иногда нескольких поэм; ибо поэма схватывает только один, отдельный момент из жизни героя и представляет его как бы чем-то цельным и оконченным. Так, сказка о Добрыне начинается кручиною и печалью князя Владимира, испуганного каким-то неизвестным богатырем, разбившим свой шатер перед Киевом. Этот богатырь был уже знакомый нам Тугарин Змеевич. «Чохнул он чох по полю заповеданному – дрогнула сыра земля; попадали ничь могучие княжие богатыри. А и был же Тугарин Змеевич не в урост человечь: голова-то с пивной котел, глаза-то со пивные ковши, туловище-то со круту гору, ноги-то со дубовы колоды, руки-то со шесты вязовы. А и сам-то Тугарин Змеевич едет по лесу – ровен с лесом, едет по полю – ровен со поднебесью. А и держится Тугарин Змеевич еретичеством, да и хвастает, собака, он молодечеством». Когда от Тугарина пришлось плохо, вдруг откуда ни возьмись сильный могучий богатырь: это наш давнишний знакомец, Добрыня Никитич. Он родом из Новагорода, и приехал служить князю Владимиру верою и правдою. И вышел он, с своим Торопом слугою, на Тугарина Змеевича и, как у богатырей уж исстари заведено, дал ему карачун. «И со той-то поры Добрынюшка Никитич жил во славном городе во Киеве, у ласкова осударя Владимира-князя свет Святославьевича. Три года Добрынюшка стольничал, три года Добрынюшка приворотничал, три года Добрынюшка чашничал. Стало девять лет; на десятом году он погулять захотел». Дальнейшие похождения Добрынюшки уже известны нашим читателям.
Сказка о Василии Буслаеве отличается от поэмы многими подробностями: в ней мужики новогородские, провидя в Буслаеве опасного для свободы общины человека, сами задирают его, чтоб заранее отделаться от него. Они приглашают его к себе на пир, сажают его на первое место, но Буслаев скромно (из политики) отговаривается: «Вы, гой еси, люди степенные, честны мужики посадские! велика честь моей молодости: есть постарше меня».
Застучали стопы с зеленым вином, понеслись яства сахарные. Пьют, едят, прохлаждаются, вполпьяна напиваются, речи держат крупные. Один Васька сидит не пьян, сидит не молвит ни словечушка. Стали мужики посадские похвальбу держать. Садко молвит: «А и нет нигде такого ворона коня супротив моего сокола: он броду не спрашивает, реки проскакивает, дороги промахивает, горы перелетывает». Чурило молвит: «А и нет нигде такой молодой жены супротив моей Настасьи Апраксеевны! Уж она ли ступит, не ступит по алу бархату; ест яства сахарные, запивает сытой медовой; уж у моей ли молодой жены очи сокольи, брови собольи, походка павлиная, грудь лебединая, а и краше ее нет нигде во всей околице поднебесной». Костя Новоторжении молвит: «А и нет нигде такого богачества супротив моего: три корабля плывут за синими морями с крупным жемчугом, три корабля плывут по лукоморью с соболями, три корабля плывут по морю Хвалынскому со камнями самоцветными; а золотом, серебром потягаюсь со всем Новым городом». Ставр молвит: «А и нет нигде такого удалого молодца супротив Ставра: едет ли он во поезде богатырском, не ветры в полях подымаются, не вихри бурные крутят пыль черную – выезжает сильный могуч богатырь Ставр Путятич, на своем коне богатырском, с своим слугой Акундином. На Ставре доспехи ратные словно жар горят; на бедре висит меч-кладенец, во правой руке копье булатное, во левой шелковая плеть, того ли шелку шемаханского, на коне сбруя красна золота. Наезжает Ставр на чудь поганую, вскрикивает богатырским голосом, заовистывает молодецким посвистом: сыры боры приклоняются, зелены листы опускаются; он бьет коня по крутым бедрам: богатырский конь осержается, мечет из-под копыт по сенной копне; бежит в поле – земля дрожит, изо рта пламя валит, из ноздрей пыль{177} столбом. Ставр гонит силу поганую: конем вернет – улица, копьем махнет – нет тысячи, мечом хватит – лежит тьма людей».
Мужики спрашивают Буслаева, отчего сидит он задумался, сам ничем не похваляется. «На что мне, молодцу, радоватися, чем перед вами похвалятися? Оставил меня осударь батюшка во сиротстве, а сударыня матушка живет во вдовстве. Есть у меня золота казна, богатства несметные: и то я не сам добыл».
От слова умного Васьки Буслаева мужики посадские дивовалися, стали его промеж себя перешептывать: «Зло держит Васька на сердце». Наливают братину зелена вина, ставят на столы дубовые, отошед кланяются и все едину речь говорят: «Кто хочет дружить Новугороду, тот пей зелено вино досуха!» Садятся мужики посадские за дубовы столы, усмехаючись, и ждут отповеди от Васьки. Встает Васька, поклоняется, принимает братину во белы руки, выпивает зелено вино единым духом. И стала братина пуста досуха, а Васька сидит вполпьяна. Заиграла хмелинушка, закипела кровь молодецкая, и стал Васька похвалятися: «Глупые вы, неразумные, мужики посадские! Взять будет Василию Вуслаевичу Новгород за себя; править будет мужиками посадскими на своей воле: брать будет пошлины даточные со всей земли; с лову заячьего и гоголиного, с заезжих гостей пошлины мытные, а мужикам посадскиим будет лежать у ног моих».
Не любы стали мужикам посадскиим речи спорные; закричали все во едино слово: «Млад еще ты, детище неудалое; не зрел твой ум, не бывать за тобой Новугороду; потерять тебе буйну голову; не честь тебе с нами жить; нет про тебя с нами земли».
Разгорается сердце молодецкое пуще прежнего; распаляется голова буйная. «Не честь мне с вами жить (отповедь держит Васька) – иду с вами переведаться». Встает Васька из-за стола дубового, встает, идет, не кланяется; и только его видели!
И вот мы прошли весь цикл богатырских поэм. Что до сказок{178} – их в сборнике г. Сахарова так мало, что мы обо всех по крайней мере упомянули, а в хранилище народной памяти так много, что обо всех не переговоришь. Скажем коротко об общем характере этих поэм и сказок. Содержание их бедно до пустоты, а потому и однообразно до утомительности. Отсутствие мифических созерцаний, как зерна развития внутреннего и гражданственного, ограниченная сфера народного быта, так сказать, стоячесть жизни, вращавшейся вокруг себя без движения вперед, – вот причина скудости и однообразия в содержании этих поэм. Только в Новегороде, где, вследствие торговли и плода ее – всеобщего богатства и довольства – жизнь раскинулась пошире, поразмашистее, а дух предприимчивости, удальства и отваги, свойственных русскому племени, нашел себе более свободную сферу, – только в Новегороде народная поэзия могла явиться более яркими проблесками{179}. Мы уже говорили выше, что новогородский штемпель лежит на всем русском быте, а следовательно, и на всей русской народной поэзии; что даже сам Владимир, великий князь киевский стольный, и все богатыри его говорят, действуют и пируют как-то по-новогородски, как будто по-купечески.
Но, несмотря на всю скудость и однообразие содержания наших народных поэм, нельзя не признать необыкновенной, исполинской силы заключающейся в них жизни, хотя эта жизнь и выражается, по-видимому, только в материальной силе, для которой все равно – побить ли целую рать ординскую, или единым духом выпить чару зелена вина в полтора ведра, турий рог меду сладкого в полтретья ведра. Богатырь всегда – богатырь, и сила, в чем бы ни выражалась она, – всегда сила: сильный пленяется только силою, и богатырь богатырством. В грезах народной фантазии оказываются идеалы народа, которые могут служить мерою его духа и достоинства. Русская народная поэзия кипит богатырями, и если в этих богатырях незаметно особенного избытка каких-либо нравственных начал, – их сила все-таки не может назваться лишь материальною: она соединялась с отвагою, удальством и молодечеством, которым – море по колено, а это уже начало духовности, ибо принадлежит не к комплексии, не к мышцам и телу, а к характеру и вообще нравственной стороне человека. И эта отвага, это удальство и молодечество, особливо в новогородских поэмах, являются в таких широких размерах, в такой несокрушимой, исполинской силе, что перед ними невольно преклоняешься. Одни эти качества – отвага, удаль и молодечество – еще далеко не составляют человека; но они – великое поручительство в том, что одаренная ими личность может быть по преимуществу человеком, если усвоит себе и разовьет в себе духовное содержание. Мы уже сказали и снова повторяем: Русь, в своих народных поэмах, является только телом, но телом огромным, великим, кипящим избытком исполинских физических сил, жаждущим приять в себя великий дух и вполне способным и достойным заключить его в себе… Долго ждала она своего духовного возрождения, приготовлялась к нему тяжелым и кровавым испытанием, долгою годиною ужасных бедствий и страданий – и дождалась: нестройный хаос ее существования огласился творческим глаголом «да будет!» – и бысть…{180}



