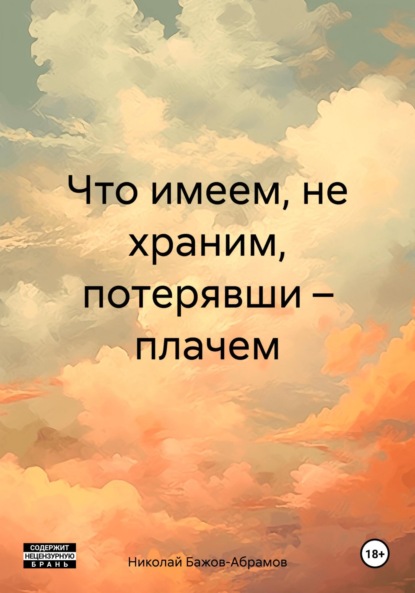
Полная версия:
Что имеем, не храним, потерявши – плачем
Выглядела она в это утро, даже не плохо. Даже красавицей её можно было принять. Высокая брюнетка, как и его отец. А он, почти под метр восемьдесят ростом был. Да и сам он, не маленького роста. В руке она держала, серую дамскую сумочку. В длинном сером плаще. Когда делала она шаг, её крепкие стройные ноги открывались. По сравнению с его отцом, конечно, она смотрелась шикарно для деревни. А отец его, был в своем же неизменном сером куртке. Он её, будто, никогда не снимал с себя. Брюки у него, хотя и были глаженные, но не сравнить же его было с нею. Да и лицо, не смотря, на его сорока пятилетний возраст, выглядел смиренно устало. Щеки припухшие, будто он набил в рот желудями, как бурундук, отвислые. А рот, какой – то брезгливый.
Такого отца он, конечно, не знал.
Во времена социализма, конечно, он был совсем другим человеком.
Знаете, такой, бегущий за волнами человек, было его представить тогда.
Как, вот, так меняется человек, когда он живет не свойственной среде. Ему все тут чуждо, выходит.
– О! – вскрикивает он, спотыкаясь в шаге, увидев тут сына. – Ты, когда приехал? Сын.
– Почему не дал телеграмму? – встречно задал он ему вопрос.
– Да он пожалел тебя, – вмешивается в разговор и эта. – Ты же там учишься. Не хотел он, оторвать тебя от учебы. Маму твою, уже не воскреснуть.
– Папа, я хотел бы переписать дома на себя и уехать.
– Переписывай. Это твое. Мы для тебя строили этот дом с твоей мамой.
– Как это переписать? А ты, нам?..
– Обожди, Люда. Он верно говорит. Мы этот каменный дом, с его мамой, строили для него. Все верно. – И, обращаясь уже непосредственно к сыну, кивнул. – Пока ты в городе, жить можно в нем?
– Живи, папа. Но я, все же хочу переписать дома. Перепишу, уеду. А вы живите. И застрахую от беды. – Это он стрелы свои направил на нее, ожидая, как среагирует она на этот его выпад.
– Сделаем, сынок.
– Почему, папа, мама умерла?
– Не знаю. Сам знаешь, давление её мучило.
– Ладно, папа. Об этом я сам разберусь потом. Времени у меня будет много.
– Нуждаешься в чем – то?
– Как все, папа. Все мы нуждаемся, в чем-либо сегодня.
Обернулся, недовольно проворчал своей подруге.
– Люда, иди, не стой тут. Поговорить нам надо сыном.
Та фыркнула, обиделась, видимо, ушла внутрь здания администрации. А они, оставшись одни тут, присели на лавку у бревенчатой стены администрации.
– Тяжело тебе, Володька, наверное. У меня тут в кармане, ты извини, деньги. Возьми. Тут немного. Всего там пятьдесят тысяч. Мало, знаю. Живешь в общежитии университета?
– Да, папа, – с трудом выговаривает он, в замешательстве, отвечая на вопрос отца.
Да, не такого он отца ожидал сейчас увидеть. Думал он, папа со своей «выдрой», испоганился совсем, а он, даже, ничего еще, выходит. Даже, понимает его, грустит. Глаза ведь его не врут. Они как зеркало, такие же прежние, как в годы юности его. Если бы эти не его отвислые щеки.
– Ты курить начал? – говорит ему отец. Сам он не курил, потому он и удивлен.
– Так получилось, папа.
– Ты только, сынок, учебу не бросай. Ладно. Покурил, пошли. Я сделаю тебе все бумаги, какие ты требуешь. И застрахуем дом. От беды, как ты намекаешь. Не бойся. Без угла ты не останешься. А она, поворчит, успокоится. Жадная она чуть. Понимаю. Не обращай на её характер, сынок. Когда мама твоя была еще жива, говорил ей, дом этот твой.
– Ладно, папа. Пошли. Перепишем. После, я сразу уеду.
– О смерти мамы, узнал ты от Марии Петровны, соседки? Это она тебе написала письмо?
– Да, папа. Она. И завтраком накормила она в это утро. И на кладбище я уже был у мамы.
– Прости, сынок. Я виноват. Не буду оправдываться. Это пустое. Знай. Растерялся я, с этой переменой в стране. Почувствовал себя ненужным. Врать не буду. Помогла она. Вытащила. И вот я теперь, тружусь здесь. Надо чего тебе, пиши. Теперь нас двое только. Держаться вместе нам надо. А ты учись. Хорошая твоя работа. Я сам всю жизнь мечтал писать в газете. Но обстоятельства сложились так. После парт школы, куда мне было еще? Нисколько не жалею, что был коммунистом. Я его не предавал. Трудился. И сейчас тружусь. Бери, бери деньги. Они тебе еще как пригодятся.
*
Вскоре он попрощался с отцом.
Конечно, тот хотел посидеть наедине с ним и в доме. Но как бы он это осуществил, когда эта, побыв чуть в здании администрации, выбежала снова к ним, и молча, грозно сверкая глазами, уставилась на Куренкова старшего, что тот ей, видимо, скажет. С досады тот хлопнул руками по своим коленям, встал, шумно вздохнул, слепо сунул руку сыну, прощаясь.
– Ты, когда собираешься уехать, спросил он еще у сына, явно уже, еле сдерживая, чтобы не накричать на свою пассию.
– Да все, папа, – ответил он, тоже, явно нервничая. – Мне теперь, сам видишь, резона нет оставаться здесь больше. До утра, так уж и быть, переночую дома. Соберу бумаги мамы, фотки, а утром, отправлюсь на станцию. В одиннадцать там, поезд мой будет, до моего города. Ладно, папа. Завтра, думаю, проводишь меня?
И ушел, с досадой на эту «выдру», что помещала им, чуть еще посидеть на этой лавке, с родным человеком. Куда еще ему теперь, пока он еще в деревне? Пройтись бы по деревне? Но, а что ему, это дало бы? Поэтому, осталось ему только, добежать до магазина, как с полчаса назад, решил, до оформления бумаги в администрации, на право владения каменного дома. Так и быть, за одной купит он там, немного еще продуктов для еды. Купит и бутылку водки. Пригласит соседку Марию Петровну, чтобы помянуть маму. А там уж, по обстоятельству… найдутся бумаги мамы, сложит их в свою сумку, да и фотокарточки семейные, надо ему собрать в одну коробку. Память, все же. А то, что отец у него такой, в присутствии этой «Люды», так он, по сути, не должен собственно вмешиваться в его личную жизнь. «Так сложился жизнь его. Тут ничего не попишешь. Мамы нет, а ему тоже жить надо», – говорит это вслух уже, Куренков, переступая дощатый порог магазина.
Магазин этот, был каменный, из белого силикатного кирпича. Он строился, когда он, еще учился в школе, тут в деревне. Кажется, это было, когда он заканчивал восьмой класс. Конечно, когда строился магазин, как все деревенские мальчишки, забредали много раз туда, лазили по его строящим стенам, подвалам. Теперь этот подвал, видимо, складывали, привезенный из района продукты, а сам магазин, был внушительным. Из двух пристроек, он был. В одном тогда, продавали продукты: сахара, крупы, вареную колбасу, хлеба, а в другом, одежду для местного потребителя. Это, раньше так было. Теперь, ему неизвестно, как обстоят там дела. Три года, там он не был. На оплеванном крыльце магазина, он встретил двух мужичков, из местных, бывших механизаторов широкого профиля. Пьяненькие уже. Один из них, оторвался от своего пьяного дружка, приветственно поднял руку ему. Видимо, узнал его. Качаясь, подошел.
– Володька, ты что ль? В магазин? Выручай. Сотенки у тебя не будет? Не хватает, а Машка, черти ее съели, в долг не отпускает сейчас. Выручай, а?
Что уж тут ему сказать. Без слов, молча выгреб, из кармана брюк, мелочи. Было там больше, что тот просил, не пожалел. Высыпал ему в горсть в руку. Не хотелось ему сейчас, завязывать с ним разговор.
– О! – замурлыкал тот, тут же забыв его. – Живем, Иван!
Он не стал уже выслушивать, о его пьяном бреде, открыл дверь магазина, оказался внутри.
Было в магазине, кроме продавца Марии – Машки, еще несколько женщин. Видимо, за хлебом пришли. Теперь – то их, отучили печь хлеба в доме. Колхоза нет. Нет и урожая, как раньше выдавали за работу, за место денег. Увидев в дверях сына парторга, Володьку, все хором повернулись к нему, сладострастно растянули свои губы, поздоровавшись.
– Володька, ты это, что ли? – спросила одна из них, изумленно хлопая ладошками по своим бокам.
Была эта тетка Пелагея, из его улицы, с двумя домами дальше, от его мамина дома. Сын у нее, погодок был ему. Вместе в одном классе просидели все школьные годы. Он потом, после школы, отправился в город учиться, а сын её, остался дома, потом, мама его известила письмом, что его забрали в армию. А в Чечне, вскоре, он и погиб. Сын у тетки Пелагеи, был не единственный. Младший сын у нее еще был. В этом году, должен был школу заканчивать. Еще, кажется, дочь у нее была. Раньше, вместе с мужем, в колхозе трудились. Он, как все деревенские, механизатором был широкого профиля, а она, то ли на ферме, то ли где – то отшивалась, выполняя разную, тяжелую повседневную работу колхозницы. Забыл уже он, где она трудилась. В те времена, когда еще колхоз у них был, обычно колхозный бригадир, просто зачитывал по утрам, по местному радио, кому, куда выходить на работу. Эти колхозницы в основном, на подхвате тогда трудились в колхозе. То, на токе. Это осенью. В пору уборки зерна, из полей. Кто еще там, силос зимою выгребал из ямы, для колхозного скота, а кто и, в район, на машине отправлялся за жомом, на сахарный завод. Всем тогда работы хватало. А теперь, невольно оказавшись в магазине, ему уже все равно было, кто кем раньше трудился в колхозе его сельчане. Да ведь он тогда, был всего на всего школьником. Судя по её теперешнему виду, она не старше была его покойной мамы, но в сельской местности женщины, все, поголовно, от тяжелой колхозной работы, рано старели. И она, была не исключением. Сейчас она, была в платке цветастом, и в сером пальтишке. На её с венами набухшей руке, в сетке, просматривался буханка хлеба. Видимо, что хотела, купила, и собиралась уходить из магазина, а увидела его, из -за любопытства осталась. А другая, была намного ее моложе. Фуфайке. А еще она оказалась, задиристая. Тоже в платке. Лет тридцать не больше ей было. Она буханку хлеба, держала на изгибе руки. Эту женщину, Куренков не помнил. Подумал. «Пришлая, может?» А продавец Мария – Машка, наоборот, сейчас, тяжело своими габаритами улеглась на прилавок, уставилась безликими глазами на него.
– Ты, Володька, чего хочешь – та купить?
– Здравствуйте, прежде, – здоровается он. – Мне, пожалуйста, тетя Маша, граммов триста колбасы свесила бы…
– Чего еще хочешь? – А еще торопливо вставила. – К мамке приехал? Прими соболезнование. Тут мы её…
Володька пропустил ее слова мимо своих ушей, попросил у нее еще: бутылку водки, хлеба, килограмм сахара и граммов двести сливочного масла.
– Положить в пакет?
– Если можно?
– Когда приехал – та? На кладбище еще не был у мамы?
– Был, с утра еще. Завтра уезжаю.
– О! Господи! Как рано умерла она, – запричитала она.
Володька, не стал ее выслушивать. Молча, схватил поданный тетей Марией – Машкой пакет с продуктами, расплатился, тихо вышел из магазина.
На улице, то есть на крыльце, его снова встретили, эти подвыпившие мужики. Снова тот, было сунулся к нему, посмотрел на него мутными глазами, махнул рукою.
– Это все ты, Володька, – вымолвил он, пьяно.
А он, после, тоскливо обвел улицу, с однотипными домами, выстроенными, когда – то колхозом, как бы прощаясь, заторопился к своему дому. Конечно, он был сейчас, злой на себя. И зачем он, потащился в магазин? Спрашивается. Ведь в его жизни, ничего не изменилось. Неужели он, подсознательно хотел, чтобы сельчане сочувствовали его горю? Зачем ему это? Да и, что изменилось бы в его жизни? Ничего же. Только расстроил себя, дал слабину себе. Теперь иди на виду у всех, трясись, боязливо бросая по сторонам, чтобы кто – то еще, не выскочил к нему навстречу на дорогу и не заорал: «Здорово, Володька!»
Почти бежал он, к дому своему. Никогда он не думал, чтобы он в своей деревне, так повел себя, как последний, действительно «блядь». С оглядкой, трусцой, трясясь. Чуть в голос не заплакал он, от своего теперешнего одиночества. Точно, был бы под рукою транспорт, он бы ни одной минуты, не задержался тут в деревне. Погнал бы машину без оглядки, чтобы только этого дискомфорта не чувствовать.
Добежал он, до своего крыльца, будто из последних сил. Сердце у него колотило бешено. Как только осилил первые ступени крыльца, бессильно опустился на ступеньку, прикрыл глаза, дал волю своим слезам. До того было ему муторно. Из соседей, выглянула на улицу, снова Мария Петровна.
– Володька! – позвала она его. – Ты что, а и правда, плачешь?
Затем, боком, боком, подошла, присела с ним рядом, прижала голову его, к своей впалой груди.
– Ты плач, плач, Володька. Легче станет. Сама знаю. Сделал бумаги? Переписал дом? Тогда идем в дом. Вижу, продукты ты в магазине купил. Идем, я приготовлю тебе кушать. Посидим вдвоем, помянем твою маму.
В доме, она быстро накрыла стол, позвала его, который в это время, пока она возилась у стола, рассматривал из альбома фото мамы. Что интересно, он и письмо мамы нашел, которая, видимо, перед своей смертью, писала к нему. Письмо это лежала аккуратно, собранной, в одном картонной коробке. Там были и бумаги его мамы: старые его письма, ее свидетельство о рождении, и эти, семейные фотки. Все это было сложено в одну коробку и подвязано платком. А в письме она, обращаясь к нему, писала, что она чувствует свою скорую смерть. «Сердце, сынок, – жаловалась она,– пошаливать стал последнее время». Было там, и, отдельное письмо, о ее последнем разговоре, с этой «Людой». Которая, накануне приходила к ней и затребовала, чтобы она отказалась от этого каменного дома, в пользу своего бывшего мужа.
А это письмо, – а она как бы само собою, на поверхности кипы лежала, – было непосредственно адресовано ему.
«Как я могу отказаться, сын, когда дом этот, мы строили для тебя? Да он еще, мне муж. Мы же не развелись еще с ним…»
Так она письменно прощалась с ним, в своем последнем письме.
Читать эти строки, ему было не выносимо. Потому он, это письмо даже не показал Марии Петровне, чтобы о маме в деревне, плохо после него не говорили.
Отложив пока, все это «богатство», он вышел к Марии Петровне, которая накрыв стол, ожидала, когда он оторвется от этого своего «богатства».
– Сядем за стол, Володька. Помянем твою маму. Самовар я даже успела поставить. Пока будем сидеть, самовар вскипит. Попьем чайку, – говорит она, хлопоча вокруг него. – Ты кушай, кушай. Тебе подкрепиться надо. Завтра, что, правда, уедешь?
… А отец его, так и не пришел к нему, в этот день. Видимо, чувствовал себя неловко перед ним, или все же, «Люда» не отпустила его.
Утром, рано еще было. Петухи еще не успели закукарекать. Он, после ухода Марии Петровны, так и не поспал даже часок. Все ночь перебирал бумаги мамы. Собрал все это, поместил в сумку. Потому, всего часок поспал, вернее, подремал, забившись в угол дивана, а там уже отец его приехал, с каким – то мужиком на транспорте. Тихо вошел, разбудил его, попросил собраться, обещав его подбросить до станции.
Пришла провожать в путь и соседка, Мария Петровна. Держалась она в присутствии отца Володьки, холодно. Торопливо поцеловала Куренкову в лоб, перекрестила, пробормотав в напутствие.
– Ты уж, не сердись на нас, Володька. Сам знаешь. В деревне так и живут. И, не забывай в свою деревню, где ты родился. Тут у тебя дом. Надо, присмотрю за домом. Мне это не трудно. Рядом же. А обижать тебя не дам твоему отцу. Знай это, Володька.
*
Уезжал он, а и правда, тяжело. Отец молчал. Да и что он мог сказать ему сейчас. И так было ясно, по его виду, по его глазам. Подкашливал, будто, как специально, чтобы чем – то занять себя, в присутствии соседки. Да и как он еще решился, проводить его до поезда? Тоже сел рядом с ним, на заднее сиденье «Москвича». Знакомый отца, хозяин машины, пожилой уже в годах был он, из Васильевки, что за «деляночным» лесом, подмигнул Куренкову, как бы задабривая, сказал, вздыхая, будто к себе больше обращаясь.
– Поехали. Дорога плохая, знаю. Доедем.
В дороге больше молчали. А что было говорить. И чтобы как – то разрядить обстановку, не сидеть букой в присутствии отца, он молча сунул ему письмо мамы, чтобы он ознакомился содержанием. А тот, как только глянул, поспешно отдал обратно письмо сыну.
– Знаю я это письмо, сынок. Знаю. Встречались они, накануне. Ругал я её. Прости её, не разумную. Не держи на сердце, на нее злобу. Все мы виноваты, перед твоей мамой. Теперь её, уже не вернуть, – вздыхает он, прося у сына тоже сигарету. – Иван, – кричит он нарочно громко, обращаясь к водителю. – Не ругай нас за дым. Сына все же я провожаю, на большую жизнь.
– Мне все равно, – отвечает тот. – Курите. Только осторожно, не подожгите там сиденье.
Из приспущенного, сзади окна, на них хлещет боковой ветер. Машина, то подпрыгивает над неровностью дороги, то юлит в сторону. Водила Иван, еле успевал крутить баранку машины.
Вскоре, показались строения станции.
Когда подъехали к барачному виду вокзалу, отец ему напомнил.
– Поезд твой проходящий. Билет только за час поезда будут продавать. Но, попробуем. Дадут, может. Впереди еще, до твоего поезда, почти три часа. Сходим в станционную столовую. Покушаем. Я хочу еще сын, купить тебе подарок какой. На память. Не беспокойся. Деньги у меня есть. Так. Мобильник у тебя есть. Часы, вижу, на руке у тебя. Решено, – говорит он затем, воодушевившись. – Подарю – ка я тебе… Сейчас я сим карту только выну с телефона. Твой такой, простоватый. С рогами. Помни меня, сын. И прости за все.
Как он и в дороге говорил, сначала они втроем сходили в столовую. Покушали. Затем отец, все же, добыл ему билет на поезд. Все же, играла тут его корочка сельсоветская. Выдали ему билет. Остатки времени, они сначала походили по станции.
Станция тут была, как маленькая деревня. Несколько улиц и десяток старых домов, двух этажных, из красного кирпича, а по окраинам пятистенки. Оказывается, выясняется, в двадцать первом веке в этой России, еще сохранились, получается, эти дореволюционные дома. А как же тогда эти слова, премьера понимать:» Мы богатеем, не смотря на эти «временные трудности». Мы, это – они, выходит. Но ведь, это провинция, а не та сытая Москва, и не Петербург. А и правда, кто же богатеет в сегодняшней России? Премьер, или его «либералы – западники». Ответа нет. А провинция сегодня… Магазин жалкий. Наверное, еще выстроен он, во времена царского премьера Столыпина. Невзрачное строение. Да еще, с привозными продуктами. Своих нет почти. Колхоза в деревни упростили. Поля с бурьяном заросли. И этот еще милиционер. И в прошлый раз, он был. Разговаривал с ним. Он его узнал, кивнул головой. А в одиннадцать, вернее, на часах его было, одиннадцать часов и пять минут, прибыл поезд его. Надо было торопиться. Стоял он всего пять минут. Надо было успеть за это время, добежать до своего вагона, попрощаться с отцом и с этим шофером Иваном. Отец он, скрыть этого было невозможно, растрогался, обнял его крепко, поцеловал в его щеку, оттолкнул, затем с досадой в голосе, выкрикнул.
– Поезжай! Не держи обид, на своего отца. Такова сегодня жизнь, сынок!
Поезд, прибавляя скорость, уводил его от этой станции. И он еще не знает, что его ждет впереди, и какие еще выкрутасы произойдут в его дальнейшей жизни.
*
В девять вечера, он был уже в городе. С первых шагов он, как только сошел из поезда, позвонил Моно Лизе, известил, что приехал. Почему он так делает, он бы и сам не ответил. Неужели только, что он ей на сохранение оставил свои деньги? Хотя, что уж там, молоть языком. Он ведь с нею, по сути, что уж тут удивляться, не так и хорошо был знаком. Ну, что он знает о ней вообще? Говорила. Помнит. Замужем была. Бросила мужа. Гулял он в стороне. Теперь живет у него, на его квартире, которую он, уходя, оставил ей. Ей, двадцать три, скоро ей будет. Всего, казалось, ничего. Неужели, а и правда, запала она? Хотя он, сам, прекрасно понимал. Что ж тут обманываться, от их знакомства, все равно, и это без всяких там голов молок, видно, ничего у них не получится. Первое, это в возрастном плане. Она старше его. Поэтому, и сам без посторонних подсказ, понимал, повозятся чуть, потреплют друг друга нервы, разбегутся. Да и, не надо еще забывать. Ему ведь еще, учиться сколько надо. Ну, и, что, работает? Этого все равно не достаточно сегодня, чтобы жить вместе. Но молодость, и любопытство, видимо, перевесило все его сомнение. Выходит, чем – то она ему, все же запала в прошлый раз, раз позвонил к ней сразу, как только сошел из поезда.
Трубку взяла она не сразу. Над ним небо серело, и, долго шли гудки. Под ногами у него, неровный асфальт, с плешивыми островками, серой сухости, от недалеких столбовых фонарей. Он уже успел дошагать от вокзала к остановке, где он хотел сесть и доехать до своего общежития. Наконец, когда он, уже отчаявшись, в ожидании транспорта, встал на остановке, подключилась к его телефону и Моно Лиза. Буднично извинилась, что была ванне, спросила, где он.
– Я в городе, Лариса. Стою на остановке. Ждал, когда ты подключишься к телефону.
– Молодец, Володя, что позвонил, – отозвалась она с порывом, радостно. – Так приезжай ко мне. Адрес ты знаешь. Жду. Ничего не объясняй. Жду, жду.
Вроде, казалось, ясно. Она его к себе приглашает. Поэтому он, в первую минуту, даже растерялся. Не знал, на какое – то время, что ему делать с этим приглашением. Поехать к ней, или все же, пропустить мимо своих ушей, на ее приглашение, отправиться к себе, в университетское общежитие. Он вначале, когда к ней звонил, даже мысленно не мог подумать, да и не только подумать, вообще, не надеялся, что она его пригласит, прямо из поезда к себе. Он же, яснее ясно, просто позвонил, как воспитанный, потому сообщил о своем приезде, без всяких там дурных умыслов. Теперь, надо было решать, что делать. Понимал, хотя и смутно. Не поехать к ней сейчас, это означало, закрыть дорогу навсегда к ней. А этого он, допустить сейчас не мог. В общежитие он, знает, просто повалится на кровать, и будет всю ночь вертеться в постели, без сна. А утром ему, идти на занятие. Да и, до редакции газеты, надо ему еще добежать. Почти и так, два дня потерял. Надо ему теперь наверстать, работать и учиться усиленно, чтобы отвлечь себя, по потере мамы.
Ночной город, пахло сыростью и прелостью гнили, павших листьев. Было, хотя, не так и прохладно. Но все же он, не поленился, вытащил из сумки куртку. На остановке, в этот час, было мало людей. Несколько пар всего. Транспорта не было. Поэтому, скрашивая время, привычно закурил. Но все же он, еще не совсем был уверен, поедет ли он к Моно Лизе, или все же, повременить с этим приглашением, отправится к себе в общежитие. Поэтому он, не торопил себя, с решением этого вопроса. Спокойно выкурил сигарету, бросил в урну, а затем как – то неожиданно, это у него получилось. Видимо, все же спутал его мысли, этот вынырнувший из темноты «Газель», маршрутка. Он, как раз шел, по маршруту Моно Лизы. Потому, больше уже не было у него времени, на раздумывания, спешно поднялся по ступенькам на эту маршрутку.
Правильно ли он сделал выбор, ему еще предстояло подумать об этом. Но это потом, потом он подумает, о своем выборе, а пока он ехал к ней. Всего ему надо отсюда, четыре остановки проехать, а там он сойдет, и поднимется к ней, жаждущей его, в этот поздний час. А что будет там, с ним у нее, об этом сейчас, не хочется думать ему. Одно он знает, терять связи, пусть даже такой, ему, конечно, не хочется. С кем – то ему, в жизни, все равно надо общаться, заводить связи, пусть даже такие, как у него с Моно Лизой.
Да если все же всерьез, так ведь он её не искал. Так, обстоятельства сложились. В нужном месте, с ним стало плохо, и она, в это время оказалась там, первой, кто его помог, не прошла мимо, как другие, бросилась помогать его. Не испугалась. Как это, ему не понять. В наше, такое неспокойное время, человек не бросила в беде, кинулась помогать. Такое, просто, не забывается. Или, все же, Моно Лиза, его заворожила тогда? Такая у нее была, загадочная улыбка, тогда. Да еще. Эта не забываемая сцена. Как она хлестала по лицу ему, чтобы он пришел только себя. Теперь это уже история, а тогда, не было бы ее, что делал бы он, на этой траве – мураве, рядом с тротуаром? Он ведь, до сих пор не понимает, что это с ним было тогда? Или, это был, а и правда, у него голодный обморок, как она уверяла ему потом, или так сильно, тогда переволновался, после прочтения этого письма, Марии Петровны. Теперь это уже в прошлом, не вернуть назад эти кадры. Да и нужно ли, это возвращать назад. Слава бога, хоть, легко он отделался. Вроде ничего, с его здоровьем не произошло. Нет никаких болей, и голова у него не кружится. А усталость чуть в теле, но это у него, видимо, с дороги. Но, а пока, не пропустить бы остановку Моно Лизы. Он посмотрел, в темень окно маршрутки. Убедился. Еще остановку, ему надо проехать. После он, доедет до своей намеченной остановки. А там пройти ему, всего сотни шагов, до её дома. Второй этаж. Но прежде, надо еще позвонить, чтобы она открыла ему дверь подъезда.
Сейчас в городе, везде и повсюду, установлены железные двери в подъездах, с телефонным отзывом. Это в деревне, двери в домах не запираются. Да и нечего там красть. У всех примерно, одинаковая жизнь там. Полу нищета. А тут, в городе, «шустрые» деловые люди, ближе к местной городской власти, деньги стали делать, на таких дверях подъездных. Капитализм в России дошел, и до дверей подъездов. Люди, стали отдалятся друг от друга. «Скоро дойдем, – это уже он вслух говорит, – «туалеты» будем запирать на замок, или пускать за деньги, чтобы только оправиться, как на вокзалах теперь. Будет тогда, полный «психоз», в хозяйстве российском».

