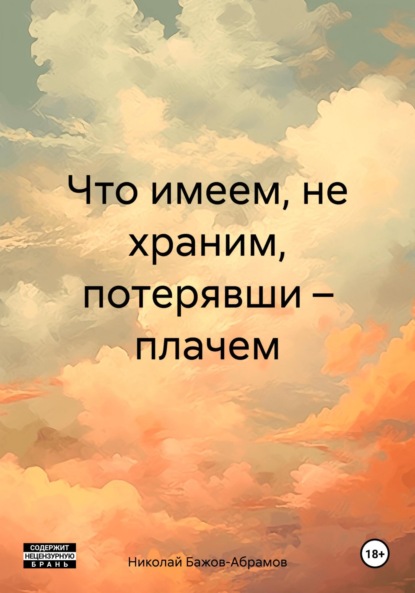
Полная версия:
Что имеем, не храним, потерявши – плачем
– Ну, тогда, пусть проходит, – говорит она, нерешительно, все еще дрожа. – Ты дочь сказала ему, как меня зовут?
– Нет, мама. Скажи сама. Володя. Скидывай туфли, проходи. Чай будем пить на кухне. А за одной, пусть тебя моя мама рассмотрит. Хорошо, Володя? – И счастливо, тихо смеется, убегая, видимо, в туалет.
– Ну, ладно, – мямлит она все еще, растерянно. – Меня зовут Ириной Егоровной. Я Маринина мама. Муж обещал скоро с работы прийти. Вы проходите, проходите. Пройдите в зал. Посидите там, на диване, а пока я на кухне поставлю чайник на плитку. Володей, говоришь, зовут? Сейчас Марина выйдет, присоединится. Вместе и посидим.
Долго ли она там, на кухне была. Слышно ему, как она из крана воду набирает в чайник, ставит на плитку.
Впервые оказавшись в доме девушки, обставленной богато квартиру, он первые секунды, так же, как и мама, Марины, увидев дочь с незнакомым парнем, был бы точно растерян. Он вообще – то на самом деле, не хотел подниматься в её квартиру, но перечить Марину он не стал, да и любопытно ему вдруг стало, как другие люди живут, в новом этом либеральном обществе. Он же будущий журналист. Должен представление иметь, прежде что – то писать. Судя по обрывочным словам Марины, она ему, так, между прочим, высказалась, что у нее папа, крупный предприниматель, по строительству домов в городе, и что её мама – домохозяйка сейчас. А раньше она учителем в школе была. Вот, все что он знал вкратце о семейном положении Марины. О себе он ей тоже рассказал, кто его отец, и что с ним сегодня стало. И о своем маме, которая жила теперь, одна в своем доме деревне. Упомянул также, что она раньше тоже учительницей была в школе. Поэтому, он сейчас, так ему не хотелось заново рассказывать подробно ей о своем маме. Но понимал, этого ему сейчас не избежать. Поэтому он обреченно сильно вздохнул, когда мама Марины присела к нему с боку и стала изучать его с такой внимательностью, что он даже смущенно завозился на диване.
– Вы, – сказала она, затем, – красивый. Особенно ваши глаза, с такими густыми ресницами, мне очень понравились. Вы тоже, Володя, вместе с Мариной учитесь на филологическом факультете?
Надо отвечать, но как тяжело ему этого сделать. Даже от волнения у него ладони вспотели.
*
– Нет, – обреченным голосом говорит ей Куренков. – Я на журналиста там учусь.
– Журналистом хотите стать? Это хорошо. Вы, Володя, извините, городской житель? И родители есть?
– Нет, Ирина Егоровна. Мои родители живут в деревне. Мама дома сейчас, а папа… – В это время к ним присоединилась и Марина, услышала, как трудно Володе говорить, где его папа, чтобы ему облегчить, выпалила, как они договорились еще на улице.
– Папа у него, мама, ушел к другой женщине. Не спрашивай больше о нем никогда.
– Но вы – то, ничего мне не рассказали, – плаксиво, с капризом выдохнула она. – Я должна знать. Кто с моей дочерью дружит, и что он за человек. Марина, как ты этого не понимаешь?
– Мамочка, прошу. Володя хороший человек. Он меня не обидит. Он мне нравится, мама.
– Ну, раз так. Ладно тогда. Вот, слышу, чайник закипел. Идем – те на кухню, – говорит она уже чуть по мягче. – Думаю, сейчас папа твой Марина с работы придет. Давайте, накроем стол. И будем сидеть, разговаривать.
– Это мама, дело, – смеется довольная, Марина. – Давайте. Володя. Сбрось свитер свой, со своего плеча. Оставь на диване. И пошли. Все с делом займемся. Володя пусть салат сделает, а я, найду, чем заняться. А мама, пусть со стороны на нас полюбуется. Вижу же, разволновалась. Вся трясется.
– Затрясешься, – перечит ей мама. – Когда незнакомый тебе человек, держа руку родной дочери, поднимается по пролётной лестнице.
– Ах, какая проказница, ты, мама. В глазок подсмотрела, когда мы поднимались по лестнице, – смеется Марина, между делом задевая Володю, то своим плечом, а один раз даже коснулась грудью своим, грудь Володи. Володя от этого её прикосновения, сделался сразу серьезным, выпрямил свои плечи, засучил рукава рубашки. Ведь ему поручили ответственное задание. Накрошить салат: из огурцов и помидоров.
Конечно, тут у них помидоры, как бы сказал бы его отец, «дохшие» – парниковые. Деревенского бы им, из огорода его мамы, таких, как кулачище его, красных, сочных, в зубах тает. А огурцы, в огороде у мамы: сочные, хрустящие. Нет, долго придется мечтать ему, такие огурцы и помидоры есть, из мамина огорода. В этом сезоне у него снова вряд ли получится. Да и уже сентябрь заканчивается. А летом, в будущем году, впереди ничего еще не ясно. Конечно, если повезет, он обязательно и непременно съездит на новый год к своей матери. А до нового года, вон, еще, почти три месяца. Не знаешь, что там дальше будет. Но надежда у него была, все же съездит к маме в Новом году.
– Володя, – это Марина обращается к нему, заметив его задумчивую физиономию. – Ты что там застыл?
– Так, ничего, Марина, – говорит ей он, печальным голосом. – Вспомнил маму, огород её, сочными помидорами и огурцами.
Вмешивается в разговор и мама Марины.
– Вижу, вы, Володя, грустите по своей маме. Скучаете по ней сильно?
– Да, Ирина Егоровна. Грущу. Она ведь там одна сейчас. Она тоже, в ваших годах. В школе преподавала. Теперь дома сидит, после закрытия начальной школы в деревне. Молодая еще. Сорок пять недавно ей исполнилось. Дал телеграмму. Подарок выслал. Не знаю, понравиться ей.
– Что вы ей выслали, Володя?
– По деньгам, Ирина Егоровна. Давно она мечтала книгу о городе, где я учусь. Выслал ей эту книгу.
*
А закончила его рассказ, Марина. Он ей в «кафе» рассказал, что маме он выслал книгу о городе, в котором он живет.
– И еще он отправил маме, свои публикации, опубликованные в городской газете. Он же мама, в редакции еще работает, корреспондентом. Параллельно учится еще в университете, без отрыва от занятий.
– Тяжело вам, Володя, наверное.
– Как сказать. Привык я, наверное, Ирина Егоровна к такой нагрузке. Пока успеваю.
– Молодец. Я ценю таких людей. Думающих. Ну что, сядем за стол, или чуть подождем еще Марина твоего отца.
Но тот, видимо, почувствовал сердцем. И так бывает в жизни. Вскоре щелкнул замок, открылся дверь входной квартиры, тем самым обдал коридор своим специфическим запахом, ласково обратился ко всем сидящим на кухне. Куренкову он еще не видел, но обратил в коридоре чужие туфли.
– Не ждали?! Я пришел! Ирина,– обращаясь к жене, ворчит он. – Где мои тапки. Не вижу я их на месте.
– Там же! – кричит на него его жена, выскакивая в коридор. – Вот же. Эх! Слепота, ты у меня. Гость у нас. Иди, вымой руки, и присоединяйся к нам. Ждем.
– Да уж, непременно, – говорит он. – Сейчас я. Ирина, а ты пока вытащи нам, сама знаешь. Говоришь, гость? Надо…
Понятно сразу, что он просит у жены. Русский же человек. Как же без бутылки на столе.
– Хорошо. Как скажешь. Поставлю. Вот тогда и познакомишься с гостем нашим.
Вскоре и он присоединяется к общей трапезе. Стол, а и правда, был расставлен богато, как бывает в достатке живущих сегодня, в семьях. К слову. В это же время, многие семьи в стране, сидят с чёрствым хлебом и картошкой. Хотя и картошка теперь не копеечная стала. Да и зарплату ведь месяцами им не выдают. А если и выдают, только талоны на водку, на пару стиральными порошками. Преемник Ельцина знает ли об этом? Знать, конечно, надо ему, а и правда, а выполняют ли его поручение губернаторы на местах? Вот вопрос. Для этого дела, мама Марины, внесла из зала, на кухню, хрустальные стаканы, хрустальную лодочку, для салата. Она это сразу отдала гостю, чтобы он там сложил салат. Борщ, она, видимо, до них еще сварила. Теперь его она подогрела на плитке, разлила всем по тарелке. Еще она вытащила из холодильника красную икру, в банке.
– Это мы потом, с чаем. Намажете на хлеб. Вкусно всем будет, – говорит она, больше обращаясь к «совку», конечно – Куренкову.
Ну, конечно же, к нему она обращалась. Кому еще похвастаться, как они живут, не как другие соотечественники, в это трудное для страны время. Он, сдержанно, конечно, промолчал, но намек её понял, кто он для нее, (бедный студент – дитя сообщества), присел предложенное ему место за столом, рядом с Мариной. Тут и он, сам, хозяин дома, присоединился к сервированному столу.
Мужик он, по определению самого гостя, был крупный, как и его домочадцы.
Как бы, не сказать обидчиво, даже, похож был он на откормленного бульдога. От хорошей кухни, щечки у него с обеих сторон отвисли. С краснотой даже, чуть с прожилками, красными. Глаза, также у него большие, как и у Маринки, но с тяжелыми мешками, под глазами. Губы, нижние, отвислые, как у того самого бульдога. По краям губ, хотя и вытерся он, мокрота все же остался. Сутуловат, но не очень. За его плотности тела, наверное. Руки, это, точно, его поразили. Такие же, как и у Марины прозрачно тонкие, с длинными музыкальными пальцами.
Пальцы рук его, точно, не соответствовали к его общему телу. Будто, они как бы отдельно от него существовали.
Вот такого формата был он, крупный предприниматель – строитель в новейшей России, хозяин этой семьи.
– Ну, что ж, – обращаясь гостью, кивает он, прилизанной волосами головой, после ванной комнаты. – Познакомимся? Я, Иван Иванович, так сказать для вас. А вы, как я понимаю, у моей дочери друг? А давай сразу, без церемоний, без этого… фамильярства. Ты ведь, Володя, учишься вместе с моей дочерью?
– Папа, – вмешивается в разговор его дочь. – Не совсем так. Он корреспондент, работает в газете, параллельно еще, без отрыва, учится на журналиста в нашем университете. Я же с его последними работами тебе, папа, недавно только показывал.
– Похвально, – зычно говорит он. – Одобряю. Помню. Читал. Надо быть сегодня архи важным человеком в этом новом обществе. Говоришь, талант у тебя, Володя? Ну, так, тогда, пока не приступили кушать. Ирина? – обращается он к жене. – Где, что я просил ставить на стол?
– Вот оно, прямо перед твоим носом, – говорит ему жена.
Что ж, неплохо смотрелась и она за столом. А то, что она держит себя высокомерно перед гостем, так ведь, у сегодняшних богатеев, свои причуды сегодня. При теле, а вот глаза ее, с грустинкой. Сразу и не прочтешь, что у нее на уме.
– Ну, Володя, – обращается Иван Иванович снова Куренкову. – Хватай стопку, и давай за знакомство. Что ж. Девочки, вы тоже с нами. Марина, разрешаю пригубить. Такое дело…
За столом, разговор, конечно, по причине незнакомого человека, не очень в начале клеился. Хотя, Марина и дергала за руку его, чтобы он букой не сидел за столом. Но ему все равно, сейчас не по себе было. Как на картинку они смотрели на него: оценивающее, подковыркой, и, одновременно выясняя еще, кто у него родители? Чем они занимаются. Где живут? Когда он дошел до его отца, Иван Иванович, даже чуть подпрыгнул. Схватил за голову своими тонкими женскими руками, а затем, после долго так сидел. Затем, как бы очнувшись, удивленно воскликнул.
– Вот, судьба! – бабахнул он, стукнув мягко кулаком по столу. – Так не должно быть. А ведь все это, выходит, правда? Мы ведь Володя, с твоим отцом, когда – то вместе учились в университете, а после, и в партшколе. Удивительно, но факт. Никуда не деться от нее. И что он там теперь? Говоришь, списали его со счета? Растерялся? Говоришь. Ну, этого, понять можно. Такое часто происходит, при нынешней сегодняшней жизни. Давно я его не видел. Ушел, говоришь, от матери твоей? Ладно, это мы потом, потом поговорим. Идем на балкон. Ты куришь? Вижу. Идем. Пусть женщины стол убирают. А мы тем временем, вдвоем на балконе спокойно покурим.
Но и на балконе разговор никак у них не клеился. Он все вздыхал, сокрушался, нервно чесал своими тонкими пальцами свои редкие волосы на голове, а затем, вздыхая, промолвил.
– Надо что, понимай, помогу. Не надо меня стесняться, Володя. Ну что ты. Брось! Он был в свое время очень хорошим товарищем. Мы брали с него пример. И ведь как жизнь бросает в пучину людей, эта наша нынешняя жизнь. Был человек, и нет его. Как личность. А ты молодец. Читал я твои статьи. Маринка показывала. Хорошо пишешь. А с Мариной ты, сам знаешь, будь аккуратнее. Она у меня единственная. Хочется ей счастья дать, чего мы недополучили в свое время. Ладно. Двинулись к женщинам.
Да, пора было уходить и гостью. Время на его часах перевалило уже за одиннадцать. Завтра у всех дела. Марине в университет, её отцу, на свои строительные объекты. А ему, с утра надо бежать в редакцию газеты, отметится, и, обратно в университет. Учебу его никто не отменял. Оставалась только жена Ивана Ивановича, которой не надо никуда бежать, кроме как сготовить утром мужу завтрак, а дочери, напомнить, чтобы она не забывала, как дорогу переходить у рынка.
Ушел от них он еще не сразу. Посидел со всеми в зале на диване, слушал с урывками последние новости, передаваемые из экрана телевизора. А затем, когда уходил, Марина вышла его провожать на площадку, перед лестницей, как спустится ему вниз.
Маринка шепнула ему, зачем – то оглянувшись на дверь.
– Заметил? Папе ты понравился. Это же хорошо, Володя. А мама, она у нас, не зацикливайся. По жизни, трусиха. Как сказал бы папа: «Высокого мнения она с другими…» Ну, до завтра. В университете встретимся?
Затем, в порыве прижалась к нему, поцеловала ему в губы, стремительно ушла к себе, в квартиру.
*
Оказавшись на улице, он, нигде уже не задерживаясь, сразу отправился к себе в университетское общежитие. Да и время было уже поздно, а ему еще хочется высыпаться; утром предстоял ему участвовать, как всегда, в редакционной летучке, как у них это было принято. После еще ему, бежать в аудиторию – занятие ведь ему никто не отменял. Но то, что он как всегда опоздает, это уже было привычно. Преподаватели на него, как раньше, в начале учебы его, уже не шикали. Знали, он теперь работает и в редакции газете, как полноценный журналист, да он, и предметы хорошо знал. Удивительно, поверить это было трудно, но он везде успевал. Понятно, и кушать ему соответственно надо было вовремя, чтобы не протянуть ноги; но он ведь пока, был здоровый. Не чувствовал усталость. Да и в голове у него сейчас, никаких посторонних мыслей. А то, что там, у Марины услышал, о своем отце, он еще успеет, подумает, для этого ему надо время. А сейчас, что его без толку выкручивать в голове. Они еще у него там, не созрели, не расставлены по полкам в голове. Не дозрел он еще, да и не понимал, как так можно совпасть судьбы отцов его и Марины. Но, а пока: бегом, бегом дошагать до общежития, упасть в постель, забыться сном. Если он этого не сделает, свалится от бессилия. А ведь бывало у него на практике, засыпал на ходу, носясь по улицам города, описывая в голове свои очередные статьи, а потом, прибежав домой, торопливо строчил это на бумаге.
Его отвлек от бесконечных дум, проскочивший шумно по дороге, мимо него машины. Он обдал ему гаревом, шумом, проехал, скрываясь из его обзора, в ночном, плохо освещенном городе. А по тротуару, по которому он шел, дыша ночную прохладу, навстречу еще, вереницей шли люди: молодежь, и запоздалые бомжи, с пакетами, торопящие к своим канализационным люкам – лежакам ночлежкам. Ему некогда рассматривать их, уходящих мимо него никуда, да они ему сейчас и не интересны. Он был занят сейчас, только одной думой, недоумевал, без конца спрашивал себя: «Как могло быть такое, что его отец знал эту семью?» Он ему никогда не рассказывал, как жил до мамы, до него. Отец, когда он еще школьником был, рано уходил из дома, а если и дома находился он, его всегда одергивал. «Не видишь, ты меня мешаешь. Отчеты у меня. Дай чуть посидеть мне за столом одному». Был он, как те же коммунисты страны, мечтающие построить Маниловские мосты по Гоголю.
Хотя, он иногда и проводил с ним время. Это, в основном происходило в субботу, когда наступал банный день. Шел с ним вместе в баню, которая стояла у них в задах дома. Теперь там этой бани нет. Когда строился этот каменный дом на банном месте, отец его снес, перенес чуть ниже.
А в бане они мылись подолгу всегда. Отец несколько раз выбегал в предбанник, после парилки с веником, а оттуда задыхаясь от нехватки воздуха, кричал на него. «А ну, плесни еще на каменку, сынок. Сейчас я снова войду, попарюсь».
После бани – это всегда у них, как обязательное, чаепитие дома. Мама им уже все приготовила для этого. Самовар медный, древесным углем топленный, дымит паром, ожидая их прихода из бани. На столе еще домашний свекольный квас. Он больше всего любил эту мамину квас. Он был такой золотистый, полусладкий, пенный. Сколько не пей, все было мало, казалось, тогда ему. А отцу еще мама, ставила на стол графин с вином, собственного домашнего производства. Он, разморившись после бани, распарено сидел всегда на диване у стола и лениво цедил это вино и кваса. А ему, что еще надо было? Попил вдоволь кваску, бежал на улицу, к уличным друзьям. А его мама, освободившись от домашних дел по дому, трусила уже по протоптанной тропинке в баню. Одна, с небольшим тазиком. В бане она еще, после, затеет небольшую стирку.
Что и говорить, жили они тогда дружно. У отца тогда работа была. И страна тогда, вроде, была стабильная. Не важно было, кто тогда там со страной правил: Брежнев, или Горбачев этот – иуда. Цель все равно, словесная какая – та была, у людей в их жизни. Пусть это даже, в плакатном, телевизионном варианте Горбачева. Да и у него – как ни как, он был в деревне все же, самым главным рупором – парторгом. И он, а и правда, гордился своей должностью. И не помнит он, чтобы отец его принизил в деревне кого – то, отругал при всех. Да он, вроде, а и правда, ко всем ровно, кажется, относился. Даже этому горбачу – слово блуду. И вот, на те, с приходом к власти этого Ельцина, тут же почему – то, торопливо расформировали колхоз. Короче, за – бол – тали тогда глубинный народ. И он после, никому не нужным стал. И это, сорок пять лет. Получилось, у него кончилась жизнь. Как и у многих в этом сообществе людей. И ради чего? Да и зачем надо было разрушать страну? Один раз ведь уже ломали в начале века. Что вышло? Расстрелы, лагеря, Колыма, цензура, да и побег лучших людей за рубеж. Неужели? Снова, это повторится?
«Ладно, – бубнит снова он. – Пора и мне спать».
Поднявшись к себе, он тут же падает на постель и мгновенно засыпает.
*
А утром, когда он спустился по подъездной лестнице, чтобы бежать в редакцию, старая, с бородавкой на носу, дежурная вахтерша, студенческого общежития, тетя Маша, вручила ему письмо мамы. Так как он торопился, выхватил из её рук на ходу это письмо, из рук вахтерши, выскочил на улицу. Пока шел, направляясь в сторону редакции, на ходу вскрыл письмо. И с первых же строк, чуть не свалился, на притертый подошвами на серый асфальт тротуара. Не поверил, что там прочел. Остановился, углубился к чтению. Поверить этому было трудно. Перед ним поплыли, словно в тумане: дома, строения, люди, идущие впереди него. И упал бы, если бы сзади его, в это время, вовремя не поддержал своим плечом, догоняющая его, какая – та молодая девушка. Ну, на глаз, в возрасте, можно было дать ей двадцать, можно, и двадцать пять. Сама, в ярком черном юбке, до её колен, и в сером пиджаке. Через плечо у нее, еще висела пухлая, серого цвета, как и её пиджак, сумочка. Ну, там у нее были, наверное, все причиндалы женской принадлежности, с которыми пользовалась по надобности вне дома.
Стояла, тихая, такая мягкая осенняя погода. Ни жарко было, и не холодно. Да и ветра никакого не было, что удивительно. По голубому ясному небу скользили, или все же, лениво выплывали с боков, со стороны севера и юга, рванные белесые облака.
– Что с вами? – вопрошающее обращается к нему эта девушка, все еще удерживая его своим плечом. – Вам, молодой человек, плохо?
– Сейчас пройдет, – мямлит он, смущенно. – Голова закружился. Вы извините меня. Я, наверное, вот тут на траву пока присяду. А то упаду. Не пойму, что это со мною? Вам же тяжело поддерживать меня своим плечом.
–Глупость не говорите, – говорит она ему. – А ну, дайте, что там у вас? Вас же качает. Понятно. Какая – то Мария Петровна пишет. Кто она вам?
– Соседка моей мамы.
– Вашей мамы? – таращит она глазами на Куренкова. – Да ведь тут написано, что похоронена она, еще десять дней тому назад. Сегодня, какое число? Постой. Дай вспомню. Так… Конец сентября. Письмо, по штампу печати, прошло уже пять дней. Получается, точно… Сегодняшним днем, пятнадцать дней, как твою маму похоронили. Сиди, – рычит она на него, с волнением в голосе. – Сейчас я сама прочту адресованное тебе письмо. Тут пишется, что твою маму, будто кто – то отравил. Это кто? Так Мария Петровна пишет. Так… Дальше. Тут еще… Вашего отца, так и написано, «милиция трясет, приехавшая из района». Нет, тебе… а, да, Володя, срочно самому надо ехать на родину. Ты это понимаешь? Что молчишь – та? Господи?! Не молчи только. Давай, я тебя помогу подняться. Тут адресовано общежитие университета. Ты, Володя, студент? Не молчи! – выкрикивает она, увидев, как он, закатив глаза с бельмом, сваливается боком на траву – мураву.
Ах! Как же хорошо сейчас ему: лежать, распластавшись на траве, рядом с тротуаром. Дома, дома плывут, перед его вылезшими, будто, из орбиты, глазами. А еще слышит он, будто издалека, как девушка кричит, шлепая его по щекам. Кажется, ему, после каждого шлепка девушки, рядом поют те же деревенские соловьи, за которыми он наблюдал в поле, перед деляночным лесом в деревне своем, еще в детстве. Высоко, высоко он в небе, не видно даже, а трель льется, льется вокруг, наполняя и радуя эту жизнь.
Видимо, он приходил в себя. Так как, за место, треля соловья, у себя в деревне, он вдруг почувствовал ощутимый шлепок по своим щекам, заныл, попытался подняться.
– Слава бога, – говорит ему девушка, нервно сдувая губами с глаз, лезущие свои волосы. – Пришел в себя. Ты как себя чувствуешь? Может тебе, скорую, все же вызвать?
– Зачем? Мне уже лучше. Мне надо в редакцию.
После этих его слов, девушка улыбнулась, в порыве, радостно прижала голову его к своей пышной теплой груди.
– Ну, ты, Володя, напугал же меня. Давай, попробуем встать. Посмотрю, удержишься на ногах? Поверю. Отпущу в редакцию, нет, не смотри на меня так, я не шучу, сказала, вызову скорую.
Получилось. Не надо никакого скорого. Он даже отряхнулся от травы, прилипшей к его брюкам. А девушка, все, будто, раздумывала, продолжать ей дальше путь одной, или все же, проследить за парнем, идти вместе с ним, до его редакции газеты.
– Ладно, – говорит она затем решительно. – Я провожу тебя. В пути расскажешь о себе. Интересно стало. Прости, я имела виду, не смерть твоей мамы мне интересно, а интересно, что такой рослый парень, чуть «коньки» не откинул, от этого неумного письма. Я этой, Марии Петровне, была возможность, отхлестала крапивой по её голому заду. Так нельзя ей было сообщать о смерти твоей мамы. Сможешь идти то? Помочь тебе? Или, сам?
И они, оба зашагали по тротуару, по направлению редакции газеты. Люди, проходящие, наблюдающие недалеко за этой трагедией, тоже рассосались по своим делам.
Теперь они шли одни, поддерживая друг за друга. Она, с лева от него, а он, справа. В таком положении, он, то и дело, вырывался вперед, то, отставал. Разница шага, конечно, между ним было. Он все же был ростом, под метр восемьдесят, а она, была всего небольшого роста. Метр шестьдесят, не больше. Но стройна она была в этой её одежде: в юбке и кофточке с пиджачком. Да и лицом её, Господ бог не обидел.
Если бы он, а и правда, был художником, он бы её нарисовал похожую на картине Леонардо да Винчи, как Моно Лизу. И правда, она страшно была похожа, на эту, Моно Лизу: загадочной улыбкой в уголках своих губ.
– Давно ты уже там учишься?
– Да. На факультете журналистики. Я работаю уже в газете. С первого дня.
– Писать любишь?
– Наверное. Вы простите меня за то причиненное беспокойство. Мне, а и правда, неудобно перед вами.
– Хочешь, по глазам вижу, узнать мое имя? Правда, же. Зови меня Ларисой. А коллеги меня зовут, Ларисой Ивановной.
Отошло, видимо, эта его слабость, по прочтению этого письма. Вновь он ощутил силу на своих ногах. Но одновременно, напугало его до истерики, как такое могло случиться с его мамой? Конечно же, он сегодня же поедет на вокзал, сядет на поезд, отправится к себе на родину. Вот он сейчас, как только дошагает до редакции газеты, предупредит редактора о своем настигшем горе, затем ему еще в деканате надо с деканом встретиться. К вечеру он и поедет, если ничего не изменится в его расписании. А поезд у него отходит, с городского вокзала, помнил он, в семь вечера.
Так что, и на дорогу, беспокоиться ему не надо. Слава богу, у него деньги есть. Если мало покажется, он возьмет и часть заначки, припрятанные в матрасе. Тогда ему, и на обратную дорогу не придется дрожать. И там он на месте, и покончит со всеми делами. Сходит на могилу матери, поговорит с людьми, с чего это его мама, вдруг умерла. Если в смерти мамы причастен его отец, он пока не знает, как с ним быть. Наконец, ему и о себе надо думать; за одной параллельно займется и с домами. И с бревенчатым, и с каменным. Поговорит по душам, на этот раз уже и с отцом. Ну, если он… а и правда, причастен все же к преждевременной смерти мамы… В горячку, конечно, пороть, ему тоже нельзя. Главное: понять ему, разобраться, а выводы, он еще успеет сделать. А пока, красиво, или некрасиво так думать, прежде ему надо подумать, и о будущей своей жизни. Распустит сейчас он вопли, – все. Как говорят тогда, знающие люди: «Дело табак, тебе тогда». Никто его тогда ничем не поможет. Рассудительность, конечно, у него есть. Но, вот, ему, как – то, все равно не свойственно, перед этой рядом идущей девушкой. А ведь она. Он это видит. Не совсем равнодушная оказалась. Не прошла мимо, когда ему было очень, видимо, плохо. Чуть ведь, а и правда, концы не отдал. Почувствовал, после прочтения этого письма, сразу слабость на ногах. И ведь, чуть еще не грохнулся, прямо на этот тротуар, по которому он в каждое утро ходил, по направлению к своей редакции. И тут, будто, как с неба спустилась, рядом оказалась, и вовремя еще, эта Моно Лиза, с именем Лариса Ивановна. Это уже потом, он все же не удержался, присел на землю, на газон, рядом, с тротуаром. А как она тогда, это было видно по её выражению лица, забеспокоилась. Чужому, казалось бы человеку. Не пробежала мимо, как другие, с оглядкой, склонилась, чтобы помочь его, начала хлестать по его щекам. Этого ведь никогда не забудешь. А с отцом он еще, разберется. Дай ему только время. Но почему, он вновь возвращается к тому месту, откуда у него начались неприятности. Что случилось, все же, с его здоровьем? Почему сердце так учащенно забился в его груди? Он же, вроде, здоровый. Как другие бы сказали о нем: «Как бык…» Да и питается он… вроде, регулярно. Если бы это был у него голодный обморок, еще он мог понять, что он просто голодный. У Марины, вчера, как он наелся: борща, салата. И даже рюмку водки за вечер одолел. Ничего же не почувствовал. Дошел до общежития. Ну, постоял чуть внизу у здания общежития, затем он ведь поднялся и сразу лег в постель. Да и утром он, а и правда, некогда ему было, не завтракал. Даже чаю не попил. Чуть, конечно, проспал. Потому, как только сходил в туалет, почистил зубы, побежал в редакцию. Так как боялся опоздать на эту летучку.

