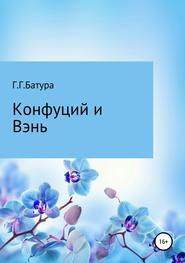 Полная версия
Полная версияКонфуций и Вэнь
«Шэнь?» – как бы переспрашивает Конфуций у этого человека. А дальше… дальше он обращается с короткой фразой к оказавшемуся рядом ученику и не дожидаясь его ответа выходит. И идет, возможно, на эту самую «аудиенцию». Но то, что произнес Конфуций, было сказано им, в первую очередь, для себя самого, а не для Цзэн-цзы: Конфуций просто высказал свою мысль вслух, потому что она поразила его своей неожиданной очевидностью. Ведь он даже не стал дожидаться какого-то ответа. Ему этот ответ был не важен, потому что сказано это было не для ученика. А появилась у него такая мысль только потому, что Конфуций – это «перманентный Жэнь». И то, что он произнес вслух, – напрямую связано с этим загадочным шэнь, т. к. именно это шэнь родило в нем ту мысль, которая и была высказана.
А дальше – дальше для нас все уже становится ясным, как «свет Божий». Мы уже много раз заявляли читателю о том, что в вэньяне широко распространено явление омонимии, – когда разные по графике иероглифы на слух произносятся одинаково, например, вэнь – «слышать» и Вэнь в имени Вэнь-вана. И этим свойством своего родного языка просто вынужден был пользоваться Конфуций, поставленный в ситуацию необходимости «исправления имен»: для него самого это свойство языка оказалось настоящей «палочкой-выручалочкой», – хотя бы только для себя самого. Ведь не мог же он все время молчать, как рыба, о том главном, что его постоянно волновало!
Но если у какого-то человека имеется такая способность или особенность восприятия, значит, она будет проявляться автоматически, когда он слышит из чужих уст омоним важного для себя слова. Если, например, молодой человек любит девушку по имени Лена, – он всегда внутренне отзовется на это имя, когда его услышит, – кто бы его не произнес, к какой бы другой девушке оно не относилось, или даже если речь будет идти не о девушке, а о Сибирской реке под названием Лена. Он вспомнит именно «свою» Лену, а еще точнее, – мысленно обратит это «чужое» в данном случае имя к своей возлюбленной.
Омонимом Ориону-шэнь (и особенно принимая в расчет совершенно уникальную «зрительную впечатлительность» Конфуция, когда графика шэнь – это «нечто невесомое», «ночное» – потому что «звездное», – но и одновременно «человеческое», «летающее» – т. е. почти «призрак»!) является другой иероглиф – то, главное, что всегда пребывает в мыслях Конфуция: шэнь-«дух» (БКРС № 4337), т. е. общее имя для всех «духов верха». Итак, когда подошедший человек что-то сообщил Конфуцию, у него – при адекватном восприятии всего услышанного – невольно возникла ассоциация с «духами верха». Поэтому он и переспросил – скорее не для Цзэн-цзы, а для себя самого: «Шэнь?». Все то, что сказал Конфуций дальше, было зафиксировано в тексте Лунь юй, т. к. – даже при непонимании учениками этих слов – было ясно, что для самого Конфуция это чрезвычайно важно.
Нам могут возразить, что у этих двух омонимов – шэнь-«Орион» и шэнь «дух» – разное тональное ударение (или «тоны»). Да, это так, но справедливо это только для последней полторы тысячи лет. А во время Конфуция и еще где-то до IV в. н. э., как утверждает наука, в китайском языке присутствовало только два тона вместо четырех стандартных для сегодняшнего Пекинского произношения. Тональное произношение слов вэньяня только предполагается. Скорее всего, на изменение структуры произношения в китайском языке (на особое внимание к проблемам фонетики в языке, а возможно, и на появление «фонетика» в качестве принципа построения иероглифа) могло оказать знакомство Китая с индийским буддизмом, т. е. очень близкое знакомство китайских интеллектуалов с письменностью (санскритом), построенной на совершенно ином принципе, – на фонетическом, а не пиктографическом.
Но если это шэнь попало в текст суждения, значит, древнее произношение этого иероглифа было одинаковым с произношением иероглифа «дух». Во время жизни Конфуция словарный запас грамотного китайца состоял из 3 тыс. односложных слов, имеющих два разных тона. В начале следующего тысячелетия – уже нашей эры – подобная структура письменности перестала справляться с резко возросшим числом новых слов (Китай к этому времени превратился в единую централизованно управляемую Империю с мощным бюрократическим аппаратом), поэтому появились «ключи», увеличилось число тонов и большинство слов стало состоять из двух иероглифов.
Ну и теперь, наконец, мы попытаемся представить читателю правильный перевод этого суждения в традиционном для нас «дословном» переводе:
4.15. Почтенный (цзы) произнес (юэ): «Шэнь? (ху – знак вопроса). Мой (у, т.ж. «я», «мы») Путь (Дао) связан в единое целое (и, т.ж. «*объединять», «единый», «один», «приводить к единству») с помощью (и, т.ж. «посредством») этой самой (чжи) бечевки для нанизывания (гуань, т.ж. «нанизывать на бечевку, напр. монеты, рыбу», «продевать насквозь», «протыкать насквозь»)». Цзэн-цзы сказал (юэ): «Именно (вэй, т.ж. «только», «лишь», «*поддакивать», «*но вот…»)». Почтенный (цзы) вышел из (чу) ворот (мэнь, т.ж. «двухстворчатая дверь»). [Некий] человек (жэнь) спросил (вэнь): «Что такое (хэ) [он] сказал (вэй, т.ж. «высказать», «говорить») (е конечное, завершает фразу)?». Цзэн-цзы сказал (юэ): «Дао мужа (фу) наставника (цзы, т.ж. «сын», «почтенный», «учитель») – это преданность (чжун, т.ж. «искренность», «верность») [и] снисходительность (шу, т.ж. «прощать», «извинять», «быть снисходительным»). Только и всего (эр и)! (и, конечная частица, восклицательный оттенок предложения)».
Из ответа Цзэн-цзы можно сделать однозначный вывод о том, что он – и это вне всякого сомнения – ничего не понял из слов Учителя. Он что-то «*поддакнул», или даже «*задумался» (таково значение похожего по графике омонима). Возможно, он даже стал что-то говорить невпопад, например, «*Но вот…», – но так и не сумел разумно завершить начатую речь. Эти слова Учителя застали его врасплох, что вытекает и из его последующего «объяснения» слов Учителя постороннему человеку. Совершенно нелепо и нелогично раскладывать «единое» (и) Учителя на две составляющие, а именно это и сделал Цзэн-цзы, так и не назвав подлинного смысла «единого» (т. е. сведенного к чему-то «одному», а не «двум»). Если сам Учитель говорит о «едином», то Цзэн-цзы – о понимании Дао. Причем, также нет сомнения в том, что Цзэн-цзы – он, ведь, вполне разумный человек – осознавал, что сказал что-то совершенно не относящееся к сути вопроса.
Если бы его слова были пересказанными словами самого Конфуция (теоретически говорим), то их следовало бы понимать несколько иначе: «искренность [по отношению к духам] и снисходительность [к людям]». Вполне вероятно, что в каком-то другом своем разговоре с учениками Конфуций говорил именно это (не привязывая к «единому»), поэтому их и повторяет Цзэн-цзы, – первое, что пришло ему в голову. Ведь не мог же он признаться постороннему человеку, что не знает ответа на этот вопрос.
В словах Конфуция иероглиф чжи – «эта самая» (бечевка) – поставлен в самый конец фразы, как и положено местоимению в китайском предложении. Мы его вынесли в середину исходя из норм построения предложения в русском языке. Это чжи не фигурирует в традиционных переводах, хотя для правильного понимания смысла суждения оно очень важно. «Этой» (чжи) бечевкой, которой в Китае в старину связывали сушеную рыбу, или на которую нанизывали драгоценные раковины ка́ури (которые играли роль денег), превращая все в единую «связку», – как раз и является то таинственное шэнь, которое мы слышим из уст Конфуция.
Именно «этот» (чжи) мир шэнь – мир духов – связывает или объединяет между собой в единое целое весь жизненный путь (Дао) Учителя: и его участие в жертвоприношениях, и его почитание Вэнь-вана и Чжоу-гуна, и его особое отношение к иероглифу Жэнь, и введение фактически нового понятия Цзюнь цзы, и его многочисленные попытки устроиться на службу, и рождение сына, и обучение учеников, и не боязнь разбойников, – и всё его поведение, которое так подробно описано на страницах Лунь юя. И даже все его «подхалимские» пригибания в поклонах (так мы это сегодня воспринимаем, и именно по этой причине отдельные переводчики даже не включают главу 10 в корпус Лунь юя), когда князь поручал ему нести свой царский скипетр (нефритовый диск); и его «глупое» неподвижное сидение в парадной одежде во время грозы, и даже ритуальное «поправление циновки» перед тем, как на нее сесть, – все это связано воедино невидимой для нашего взора «бечевкой». Все это и есть – «единое» шэнь.
Данное суждение занимает совершенно особое место среди всех высказываний Конфуция. Наверное, только здесь – учитывая всю важность сказанного – он фактически «открытым текстом» заявляет о своих приоритетах в этой жизни. И разве можем мы сомневаться в этом его признании после того, как внимательно ознакомились со всеми его предыдущими суждениями? И разве можем мы хоть как-то судить его за такое поведение и за такую его жизнь?
Здесь очень уместно попытаться определить, наконец, и истинное значение «таинственного» обращения Конфуция к своим ученикам: эр сань цзы – буквально, «два-три ученика». Традиционное понимание этих слов в смысле «малые дети», «детки», или «мои ученики», «мои дети» не выдерживает никакой критики. И в то же самое время любому понятно, что это обращение в устах Конфуция – одно из самых теплых и даже «интимных». В суждении 7.24 Конфуций обращается к ученикам со словами: «Вы, эр сань цзы, считаете меня скрытным? Я не скрытен…». Так можно говорить только с самыми близкими людьми, со своими взрослыми детьми. Более того, почти не может быть сомнения и в том, что это обращение введено в оборот самим Конфуцием, а не является каким-то общепринятым «разговорным штампом», который использует, в том числе, Конфуций.
Мы можем предложить два варианта решения данного вопроса. Первый – для «общего пользования». Выражение «два-три» – если мыслить логически – используется в том случае, когда речь идет о небольшом количестве чего-то, например, о небольшом числе самых близких учеников. Ведь и Христос не случайно обращается к своим малочисленным последователям со словами: «Не бойся, малое стадо…». То есть это словосочетание может пониматься как «ближайшие ученики». Преображение Христа произошло в присутствии всего трех самых близких учеников, хотя «ближайших» апостолов было двенадцать.
Второе значение – скрытое, и оно сложнее для объяснения, хотя начинает «предчувствоваться» чуть ли не сразу же, при первом знакомстве с текстом. Любому читателю понятно, что в выражении эр сань цзы отсутствует здравая логика. Это – первое и главное впечатление, а значит, такое выражение должно подразумевать какое-то иное прочтение. Но если читатель уже знает смысл иероглифа Жэнь, в таком случае сразу же возникает предположение о том, что цифра «два» – в иероглифе Жэнь и в этом обращении – это один и тот же древний иероглиф шан – «верх».
Но шан может иметь отношение только к «духам верха», которые так близки сердцу Конфуция. В случае с иероглифом Жэнь – смысл шан уже понятен, а как понимать это в случае сань («три»)? И вот тут мы вдруг вспоминаем о том иероглифе шэнь, о котором идет речь в этом суждении. Дело в том, что среди немногочисленных омонимов иероглифа сань (их всего около двадцати, причем, это с учетом новых, а также повторяющихся в более простом написании) присутствует и наш шэнь. Этот иероглиф шэнь в зависимости от своего значения произносится по-разному, но в том числе и как сань. Причем, мы уже упоминали про тесную связь этого иероглифа шэнь с числом «три», т. е. для всякого ученого мужа эти два иероглифа – сань и шэнь – являются почти синонимами. О произношении этих иероглифов нам беспокоиться не следует: их современное произношение и произношение древнее – это разные вещи, причем, каково было древнее произношение, точно никто не знает. И если наше предположение является правильным, значит, кроме смыслового значения (число «три»), эти два иероглифа объединяло и их произношение. О зрительном восприятии «тройки»-шэнь мы уже говорили.
Итак, получается, что Конфуций обращался к своим ближайшим ученикам, пусть и завуалировано, буквально так: «верхние духи сынки/ученики» (эр сань цзы), фактически «духи верха». Почему так? Возможно, он хотел видеть их будущее именно в этом облике. Возможно, по той причине, что ему приятно было само напоминание о близком для себя мире духов. Но может быть он желал поощрить своих самых лучших учеников таким обращением, взятым непосредственно «из мира Чжоу», которое воспринималось ими как высшая похвала. Мы вовсе не гарантируем читателю, что это нелогичное эр саь цзы понималось Конфуцием именно так. Мы просто пытаемся мыслить в рамках тех представлений, которые объединяли всю жизнь Учителя в «единое целое».
Суждение 4.16
Вот перевод этого суждения для современного читателя:
4.16. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Цзюнь цзы чувствует удовлетворение (юй, т.ж. «понимать», «превосходно усвоить») от (юй, универс. предлог) исполнения долга (и, т.ж. «чувство долга», «долг»; на бронзе: «*приносить жертвы»); сяо жэнь («маленький человек») чувствует удовлетворение (юй) от (юй) получения выгоды (ли, т.ж. «польза», «выгода», «рит. *жертвоприношение душе умершего»)».
Приведем также перевод этого же суждения в понимании древнекитайского слушателя:
4.16. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Цзюнь цзы чувствует удовлетворение (юй) от (юй) жертвоприношения-и; сяо жэнь чувствует удовлетворение (юй) от (юй) жертвоприношения-ли».
Оба варианта передают одно и то же содержание, но ориентированы на совершенно разный менталитет. И если нам понятен первый вариант перевода и совершенно не понятен второй, то древним китайцам первый вариант вряд ли был бы понятен, но при этом – прекрасно понятен второй.
То есть в этом суждении Конфуций нисколько не «обличает» сяо жэнь в каких-то «смертных грехах», а констатирует факт приверженности этих двух типов людей к разным видам жертвоприношений. Хотя всем понятно, что все эти люди принимают участие в обоих видах, т. к. невозможно себе представить такое, чтобы кто-то вдруг стал отказываться от того или иного вида узаконенных ритуалом жертвоприношений.
А почему у древних даже в мыслях не возникала подобная «крамола», – чтобы отказаться от жертвоприношения? Потому что все без исключения, как и мы сегодняшние, знали «внутри себя», что человеческое «я» не умирает, а переходит в какое-то другое состояние бытия, т. е. знали, что «предки живы».
Итак, мы вплотную подошли к этой «бездонной пропасти» взаимного непонимания между древними людьми (не обязательно китайцами) и современным человеком, и при этом совсем не факт, что «дураками» в этом вопросе являются древние, а не мы, сегодняшние. Мы окончательно списали религию «в утиль» всего каких-то 200 лет назад, в то время как древние люди сознательно жили совершенно иными представлениями о мире на протяжении как минимум многих тысяч лет. Даже десять тысяч лет и указанные выше двести – это несопоставимые величины. И все-таки мы считаем, что неправы именно они, причем, все без исключения: и китайцы с их Вэнь-ваном, и египтяне с их пирамидами (наука до сих пор не знает, для чего они предназначены) и миром Дуат, и христиане с верой в «воскресение» Христа, и зороастрийцы, которые своей целью ставили победу добра над злом. И знаменитые эллины – Платон, и Плотин – они тоже из этой бесконечной плеяды «великих дураков». Все они совершали «жертвоприношение духам», а мы этого не делаем, потому что поумнели и знаем, что «духов нет».
Еще раз скажем тому читателю, который хоть в какой-то степени обладает логикой здравого смысла (таких, к сожалению, – в отличие от древнего мира Конфуция и Сократа – в нашем современном мире ничтожное меньшинство). Верующий человек – верит в то, что его сознание не умрет после смерти тела. Атеист напротив, – верит в то, что он умрет «весь». Атеист – это точно такой же верующий, как и последователь любой религии. Ни один из этих двух «верующих» не знает правды потустороннего мира. Логика рассуждений атеиста достаточно примитивна и заключается в следующем: «Если я не вижу перед своими глазами океан, – значит, его не существует вообще»: если не вижу «духов», – значит, их нет. Более «умный» атеист ссылается на «науку».
Оба они – и верующий, и атеист – одинаково бездоказательно верующие, но вера их разная. И в этой их вере у атеиста – преимуществ никаких. Преимущество одно: его вера позволяет ему жить, как животное, которое не в состоянии заглянуть «внутрь себя». У последователя религии рассуждения иные: он ссылается на опыт и знания основателя той религии, приверженцем которой является – например, Христа, Конфуция или Мухаммеда. Верующий стремится к исполнению религиозных заповедей по той причине, что своим вполне здравым умом не может согласиться с заявлениями атеиста о том, что все в нашем необъяснимо целесообразном и невероятно сложном мире сотворилось «само собой», – просто так, от каких-то случайных «совпадений». И поэтому он склоняется к той мысли, что у всего этого Космоса есть свой Творец.
Даже современная наука не в состоянии предоставить атеисту хоть какие-то «гарантии» этой его веры, как бы она к этому не стремилась, обеспечивая интересы современного государства. В этом она бессильна, т. к. не располагает никакими достоверными «научными» данными об отсутствии «загробной» жизни. И напротив, вера религиозного человека подтверждается бесчисленными наблюдениями и свидетельствами человечества на протяжении всего своего существования (взять хотя бы один только феномен привидений), – свидетельствами, которые не в состоянии опровергнуть самая современная наука. Она в этом бессильна, – как бессилен ребенок в вопросах интегрального исчисления. Любой самый закоренелый атеист сразу же превращается в «бесконечно верующего» и трепещущего своей душой, как только этот незримый «мир духов» прикоснется к нему своей невидимой дланью. И таких примеров «обращения атеистов» – тысячи.
Можно подойти к этому вопросу и с другой стороны, – со стороны нравственной или социальной. Любой действительно верующий человек – это человек, ограниченный жесткими внутренними нравственными нормами. У атеиста такого внутреннего «тормоза» нет. Все зависит только от того, ка́к он был воспитан и какие гены в нем преобладают. Любое справедливое сообщество, которое заинтересовано в соблюдении норм общежития, будет стремиться прививать своим согражданам основы веры в посмертную жизнь. Бессмертья тела не существует, – это общепризнанный факт, и плоть человека все равно умирает. Но лучше было бы – и для самого человека, и для общества в целом – если бы этот человек прожил свою «плотскую» жизнь с верой в потустороннее воздаяние, а значит, – прожил со спокойной совестью и с миром в душе. Воровство, коррупция, несправедливость, убийства, разврат, неправедный суд – все это результат атеистического восприятия окружающего нас мира. Это – дела животного, а не человека. И именно животное заинтересовано в том, чтобы в обществе возобладало безверие.
Можно ли, читая перевод рассматриваемого нами суждения, адекватно понять Конфуция? Понять, даже если перевод соответствует нормам языка и нормам жизни сегодняшнего времени? Нет, нельзя. И мы уже привели этому доказательство: гораздо более правильный перевод этого суждения отражен во втором варианте, а он читателю совершенно не понятен. У нас и у древних – разный менталитет, и при этом линией водораздела служат жертвоприношения.
В нашем сегодняшнем понимании «жертвоприношение» – это приблизительно то же самое, что и «покормить из миски» своего сторожевого пса на цепи, и в этом – все жертвоприношение. Для древнего китайца жертвоприношение – это как для нас, еще когда-то советских, – книга. Есть книга хороших стихов, есть «Учебник древнекитайского языка», есть роман, есть книга под названием «Атлас мира», а есть – «Медицинская энциклопедия», а кому-то нравится «Карта звездного неба» или книга об устройстве пистолетов, а есть – Библия. И все это – Книга. Книга для нас – олицетворяет знание. В том числе и по той причине, что никакого другого «знания» мы уже не знаем, и даже не представляем себе, что такое знание может существовать, и что эти «глупые» древние им когда-то владели. Вот точно такой же «Книгой» для древнего китайца были всевозможные «Жертвоприношения» – бесчисленное их количество, – и это было для него настоящей «Книгой Знаний».
Христианин не должен презрительно «кривить губы» при чтении таких строк о «язычниках». Если та свеча, которую он ставит в Храме, не является истинным «жертвоприношением» Христу, Пресвятой Богородице или, например, святителю Николаю Чудотворцу, – если свеча усопшему (но не умершему!), которую он ставит у Распятия, не является искренним «жертвоприношением» тому «предку», для которого она предназначена, – значит, такой христианин «никто» и звать его «никак». Ему вообще без толку читать Евангелие. Свеча христианина, поставленная им усопшему родителю, – это такое же «жертвоприношение» живому духу усопшего, как и «предку» в древнем Китае. Одним из главных догматов христианской веры является тот, что человек не умирает, а переходит в инобытие.
Мы хотим понять Конфуция с его уже «надоевшими» нам жертвоприношениями. Но понять это можно только «войдя в его шкуру». Чем отличается эта его «Книга знаний» – жертвоприношения – от наших сегодняшних знаний, заключенных во всевозможные «книги»? Различие принципиальное, и для нас – катастрофическое. Если Книга Конфуция обращена внутрь человека, к его сердцу, к подлинной жизни, то все наши книги – исключительно о внешней стороне нашей жизни, в том числе и о той нашей «внешней оболочке» (о физическом теле), которая может функционировать на земле стандартных 100 лет. Да, медицина и технологии могут, наверное, сделать 200, но это ровным счетом ничего не изменит: это все равно останется только смертной «оболочкой», – как и у нашей цепной собаки, которую мы кормим «жертвоприношениями». Стремиться к тому, чтобы продлить свою земную жизнь на максимально возможный срок, – это не удел мудрого человека.
Чжоуское понимание мира и человека, которое было воспринято Конфуцием, – это, наверное, самое правильное и самое адекватное религиозное представление о Бытие за всю историю существования человечества. Оно основывается на том, что не существует никаких «Богов», – это европейское понятие китайцам исторически чуждо. Есть некие универсальные Законы существования мира, и они нашли отражение в чжоуских представлениях о Небе-Тянь, которое ассоциировалось в Чжоу с равномерным вращением небосвода вокруг Полярной звезды, и с нескончаемой чередой времен года, и с постоянной сменой дня и ночи. Это – что-то высокое и нравственно неподкупное. А вместо привычных нам всевозможных «Богов» – бесчисленное количество душ умерших, – добрых и злых, сильных и слабых. Все эти духи когда-то были людьми, как и мы, и жили на земле – даже самый Верховный Первопредок Шан-ди! – но которые потом, в зависимости от своей жизни и судьбы, стали принимать различное участие в жизни живущих людей, – в первую очередь, своих близких родственников. Китайская «Книга жертвоприношений» не делает различия между миром живых и миром умерших: она призвана наладить тесный контакт между этими разумными мирами, – на радость и на пользу им обоим.
Как показал исторический опыт существования религий, – наши «жертвоприношения» очень нужны этим «душам умерших». Причем, опыт Раннего Чжоу показывает, что духам нужен вовсе не «запах» готовящегося мяса (как для богов древней Греции) или аромат жертвенного вина, или возлияние крови жертвенных животных на алтарь Бога Яхве, как в древней религии иудеев. Тайна заключается в том, что каждое такое «материальное» жертвоприношение не может не сопровождаться – по самой природе человека – нашими мыслями, устремленными к этим «предкам»: мы в чем-то раскаиваемся в своих прежних поступках по отношению к ним, жалеем, что этих людей уже нет с нами, думаем о них с добром и невольно отдаем им свое сердце.

