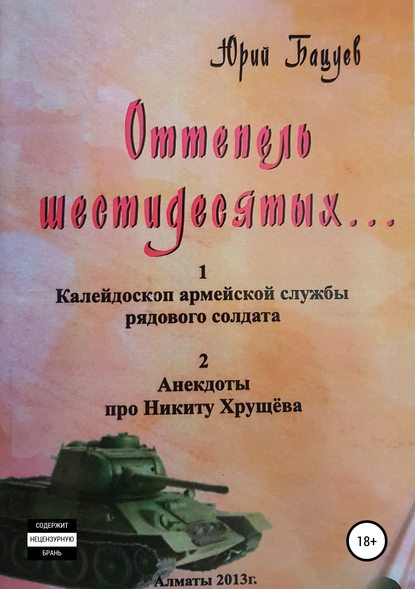 Полная версия
Полная версияОттепель 60-х
После учений машинистка Тамара и майор Касатонов поддерживали тёплые душевные отношения. Вернулся из Москвы и бравый капитан, в третий раз завалив экзамены в академию. И хотя говорят, что если в деле не везёт, то повезёт в любви, на этот раз у капитана и с любовью случился облом. Ближе к осени ситуация и вовсе изменилась.
Из Туркестанского военного округа в полк прибыл на освободившуюся должность начальника штабы полковник Слюсарев – вдовец с тремя дочерьми-подростками. Жена погибла год назад в автокатастрофе. И его, по личной просьбе, перевели в столичный округ. В полку он сразу же обратил внимание на привлекательную женщину – машинистку Тамару. Она тоже не осталась равнодушной к нему. Помню наш последний с ней задушевный разговор. Я часто изливал ей душу о том, как тоскую по любимой жёнушке и жду не дождусь того момента, когда мне объявят отпуск. Зная это, Тамара, увидев меня в конце октября, сообщила:
– Я говорила с ним, он обещал тебя отпустить в отпуск позднее.
– В январе?
– Я понимаю, тебе надо бы сейчас. Не правда ли?
– Если честно, то я не очень в это верю, – сказал я. И тут же допустил непоправимую оплошность, спросив: « А с кем Вы говорили насчёт меня, Тамара, уж не со старичком ли – новым начштаба?»
Она опешила: – Ты кого это считаешь старичком?
– Тамара, он же на много лет старше Вас?! – спохватился я.
– Слушай, – тотчас она одёрнула меня, – ты стал походить на писаря, который был до тебя, такой же резкий и ироничный.
– Наверное, армейская обстановка на меня подействовала, – неуклюже оправдывался я.
…Вскоре Тамара и подполковник Слюсарев официально поженились. Бравый капитан и майор Касатонов искренне и по-доброму их поздравляли. Тамара подружилась с дочками подполковника. А через год и вовсе расцвела – у них родился сын. Несколько раз она появлялась с ребёнком на руках в полку и, чувствовалось, что была счастлива.
В этой истории интересно то, что мужчины, ранее ухаживающие за ней, абсолютно не таили друг на друга обиды и неприязни.
…Майора Касатонова, как очень способного и перспективного, послали военным советником во Вьетнам, где шла война. Через полгода он вернулся уже подполковником и поделился с личным составом впечатлениями об этой стране. По его словам, вьетнамцы, будучи щуплыми на вид, оказались героически выносливыми и трудолюбивыми. «Удивительно было видеть, – говорил он, – как легко они носят на плечах коромысла с огромными вёдрами, наполненными тяжёлым грузом».
Санрота
Подполковник Бардин:
«Сегодня поел этот, как его, солдатский винегрет
с луком и, знаете, во-первых, это влияет на сердце –
лук, во-вторых, изжога, а в-третьих,– запах, хоть
шапкой прикрывайся и в шапку дыши».
Я бы не хотел так категорично, как заместитель по технической части подполковник Бардин, охаивать солдатскую пищу. Но справедливости ради, надо отметить, что она пригодна и даже полезна только для тех её потребителей, у которых очень здоров желудок. Меня же буквально с первых и до последних дней, проведённых в армии, постоянно мучила изжога. Я страдал, но терпел. Мучила она меня в течение получаса после каждого приёма пищи. Наконец, я решился пойти в санчасть. Там меня прощупали – нигде не болит, – выписали какие-то пилюли. Но особых изменений не произошло, тогда капитан Гудков направил меня в город Горький в санроту дивизии.
Грузный капитан Гудков в тот день был счастлив и покладист, как нежная «воздушная» балерина после успешно прошедшей премьеры – на днях ему разрешили сделать операцию аппендицита в городской больнице, и он её провёл блестяще, – подтвердив таким образом, что он настоящий хирург, а не «медицинский (как он выражался) статист» при воинской части.
В санроте под наблюдением я провёл 24 дня, можно сказать, самых спокойных за полтора года службы. Каждый день приходила женщина-врач, спрашивала, как я себя чувствую. Признаюсь честно, буквально через два-три дня моей изжоги как не бывало. И мне даже неудобно было перед врачом быть таким здоровым. Оказывается, достаточно было перевести меня на диетическую пищу – белый хлеб и молочные продукты, – как всё пропало. Я даже таблетки перестал пить. Конечно, не извещая об этом врача.
В палате нас было восемь человек, каждый со своей болезнью: у кого было повышенное давление, у кого побаливали желудок или почки. Но все мы были довольны, главным образом потому, что здесь не было над нами «докучливых старшин» и душевно мы были свободны. Конечно, как всегда и везде, нашёлся человек, который раздражал нас.
…Это был тоже пациент-солдат. Бледный, высокий и стройный, находясь в помещении, он чувствовал себя более раскрепощённым и самоуверенным, чем во дворе. Почему-то на просторе он был более скованным и неуверенным. Особенно это было заметно, когда мы играли в волейбол.
Сначала он ничем не выделялся, но заметно было, что он привык больше сам говорить, чем слушать. Я тоже страдаю этой болезнью, поэтому мы сразу с ним «срезались».
– Караганда, – заявил он безапелляционно, – это Южный Казахстан.
На что я возразил, сообщив, что это не Южный, а Центральный Казахстан.
– А я в Караганде был, – не уступал он.
– От того, что ты там был, город не переместился на юг.
Он посмотрел на меня с сомнением и замолчал. После чего стал присматриваться ко мне и вести себя настороженно.
Дни наши проходили довольно однообразно и праздно. Приятно было отдохнуть от строя в этом тихом местечке. К здешнему распорядку быстро все привыкли. О службе все «больные» отзывались плохо. И возвращаться в часть даже мысленно не спешили. Кое-кто всякими способами задерживался ещё на несколько дней. Но врачи тоже были не лыком шиты – ставили пациента в такой тупик, что он вынужден был выписываться. Так и жили. Я уже знал всех «сачков» и больных. В основном, конечно, все недомогали, но болезни всё-таки проходили, а если верить словам пациентов, которые они говорили врачам, состояние было прежнее и даже «ухудшалось».
У Жигалина нашли лямбли в печени и признали гастрит желудка. Через два-три дня он уже знал, что при этих болезнях не дают даже отпуска после лечения, и загрустил. С сёстрами начал себя вести безобразно. Говорил им дерзости, причём делал это с торжествующим видом и почему-то высокомерно смотрел по сторонам.
– Жигалин, идите принимать лекарства, – обращалась к нему сестричка.
– Зачем мне ваши лекарства? – вызывающе откликался он.
– А зачем вы сюда прибыли?
– Лечиться. Но вы же ни черта не понимаете.
– Какой вы всё-таки хам, я буду жаловаться, – обиделась сестра.
А нам он заявил:
– К Новому году я буду дома.
– Любопытно, каким образом? – изумился я.
– Я потом тебе скажу.
Время шло, но он молчал. Хотя в курилке распространялся о том, что можно глотать свинец на нитке перед рентгеном, а потом спокойно вынимать. Так же можно глотать папиросную бумагу с мёдом, ещё можно прожечь слегка желудок кислотой. Но главное – говорил о том, как ему хочется домой, и как хорошо он жил на море.
– А как ты в полку живёшь? Ты, я вижу, «очень любишь» службу, – остановил я его.
– Ещё бы, и стараюсь её всячески облегчить. В полку я вообще никого не признаю: ни старшину, ни командира. Ты представить не можешь, как я веду себя там, – охотно откликнулся он, при этом улыбался хвастливо и самодовольно.
Я понимал, что он и здесь хочет поставить себя так же, как в части.
– А на гражданке ты чем занимался, у тебя есть образование? – допытывался я.
– Образование? Есть Аттестат, его мне сделали. Но немного неудачно получилось: свели другую фамилию хорошо, а писать мою стали – тушь разошлась. Зато я достал четыре диплома об окончании плодоводческого техникума. На всякий случай возил с собой книжонку о плодоводстве. А сейчас не мешало бы на Юг, куда-нибудь в Азию, и оттуда пригнать машину.
– Украсть? – удивился я.
– Понятно, украсть. Но для этого надо сначала попасть домой… Я не могу здесь больше, я даже в увольнение не хожу, больше часа не могу смотреть в городе на людей, особенно на женщин – всё разрывается. Я готов на всё что угодно, только бы вырваться отсюда.
– Так ты хочешь с желудком что-нибудь «провернуть»? – прервал его я.
– Нет, что ты… с желудком. Я придумал куда лучше. Уж тут наверняка выйдет. Я хочу лишиться большого пальца на ноге.
– А о членовредительстве слышал? – поморщился я.
– Чудак, а кто будет знать? Я же его не отрублю. Я его сломаю.
– Как ты ухитришься это сделать?
– Может, прыгну на него, а может, вот здесь, в волейбол играя, сломаю.
– Хорошо, а если ты его неудачно сломаешь? Гипс – и снова палец цел.
– Я оторву его руками!
– Хватит трепаться, – резко прервал его я. – Детские нелепицы несёшь. Ничего ты не сделаешь.
…Через месяц я увидел его в полковой столовой. Палец он, конечно же, не выломал, но вёл себя очень высокомерно с сержантами и даже рядовыми солдатами, сидящими рядом с ним. Я тогда понял – его не любят солдаты. Но отчего-то побаиваются. Он, видно, предоставил себя незаурядным суперменом, а они, не разобравшись, поверили.
…После санроты капитан Гудков уже в части посадил меня на диету, которая отличалась от общепита тем, что вместо чёрного ржаного хлеба был белый, не такой, конечно, как в санроте, а полубелый-полусерый. И ещё, вместо десяти граммов сливочного масла, выдавалось двадцать.
Другой мой армейский недуг был не менее раздражительный и докучливый. Это случилось уже на третьем году службы – одолели меня бесконечные «ячмени». То и дело на веках глаз выскакивали красные твёдые бугорки, которые потом гноились и нестерпимо чесались. Особенно досаждали они меня, когда мы находились в лесу на учениях, где я должен был плакатными перьями выписывать огромные стенды. А комары назойливо лезли в опухшие от «ячменей» глаза. Мне приходилось отмахиваться от них, то и дело снимая очки. Глаза разъедала ещё и антикомаринная жидкость. Этот недуг стал почти хроническим. Мази, выписываемые капитаном Гудковым, временно снимали зуд, а «ячмени» только чередовались, сменяя друг друга на веках.
Избавился я от них неожиданно и, как говорится, навсегда совершенно случайно. Как-то в воскресный день, когда обычно бывает мало офицеров и старшин, я столкнулся на плацу с санинструктором нашей части. Это был тоже солдат с фельдшерским образованием. Увидев мои покрасневшие веки, сержант Сечин затащил меня в медпункт и сделал укол пенициллина. После этого всё как рукой сняло. Видимо, я просто был хронически простужен, и мази не могли избавить меня от уже ставшего привычным недомогания.
Сельхозработы – Оренбуржье, Украина
Летом на втором году службы я оказался в составе воинского «контингента», направленного для уборки урожая.
В Оренбургской области солдаты-шофера на автомашинах доставляли с токов зерно пшеницы на элеваторы. А мы, учётчики, в число которых определили меня, должны были фиксировать каждый в своём подразделении количество перевезённого зерна.
Но благодаря командиру нашего подразделения – капитану Полянскому, никакого учёта я не делал. Он прекрасно сам с этим справлялся. Чтобы быть непременно в передовиках, ориентируясь на показания других отрядов, находчивый капитан давал сведения «с потолка», но значительно завышенные, чем все остальные.
И вот при переезде в очередной совхоз (а мы часто меняли пункты назначения) капитан выстроил нас по периметру площади, внутри которой находилось местное начальство, и зачитал приказ командования с благодарностью за нашу «самоотверженную» работу и вручил вымпел «Победителя соцсоревнования». Таким образом, он давал понять сельскому руководству, с каким достойным воинским подразделением оно имеет дело.
Имя нашего неординарного капитана необычно – Вилиор Братиславович. « Вилиор, Вилиор… – что за имя такое?» – недоумевал заехавший с проверкой замполит. На что капитан охотно отреагировал: « Это, товарищ подполковник, аббревиатура, означающая – Владимир Ильич Ленин и Октябрьская революция. Так назвал меня мой папа».
Шея Вилиора была уже в гипсе. Лихо разъезжая на легковом газике, где-то преодолевая овраг, он не справился с управлением, машина перевернулась – капитан повредил шейный позвонок и оказался в гипсе. Вскоре его должны вернуть в часть, но ему этого не хочется. Здесь, на «целине», он обрёл, хоть временную, но свободу. Это было место, где в полной мере могла реализоваться его незаурядно предприимчивая и непоседливая натура. Он завёл себе душевную подружку из числа местных медицинских работниц, и нашёл способ улучшения материального состояния: приобрёл и отправил домой импортную мебель и холодильник, чудом оказавшиеся в целинных захолустьях.
Вилиор Братиславович был выше среднего роста, рыхловатый, не по-военному очень разговорчивый, а главное – жизнерадостный и оптимистичный. Мне кажется, он искренне верил (до самого его разоблачения) в то, что вверенное ему подразделение самое лучшее, и показатели, которые он давал, были достоверными. Иначе как можно воспринимать текст открытки, которую он отправил отцу после очередной «благодарности» военного начальства: « Дорогой папа, сообщаю тебе, что моё подразделение заняло первое место по вывозу с полей зерна, и мне командование объявило благодарность, а личному составу вручило вымпел за победу в соцсоревновании». На что отец незамедлительно прислал ответную открытку, в которой высокопарно поздравил сына с этим знаменательным событием.
На «целине» мы жили весело. Началось с того, что Вилиор мне однажды поручил организовать танцы и пригласить на них девушек из совхоза – надо было наладить взаимоотношения с местным населением, и заодно развлечься. Это было до того, как наш доблестный командир повредил себе шею. « Мы должны не только возить зерно, но и насаждать культуру», – сказал он.
В тот день я с утра написал плакатным пером яркое объявление о том, что в клубе (где мы располагались) состоятся танцы, повесил его на видное место и поехал в соседний отряд за аккордеоном. Перед этим я едва уговорил сержанта Гуленко, чтобы он играл на танцах. Дело в том, что он мог играть только две вещи: вальс на «Сопках Манжурии» и плясовую «Калинку». К вечеру молодёжь уже начала подтягиваться к клубу, а сержант запаниковал, и согласился «растянуть меха» только после приёма «внутрь» стакана самогонки.
Наконец зазвучала музыка, и наш бравый капитан Вилиор вывел свою медицинскую пассию в центр зала и, элегантно изогнувшись и прижавшись щекой к её щеке, начал выделывать вальсовые «па». За ним последовали в круг солдаты-шофера и поборовшие робость местные девушки. Начался вечер танцев. Приехал из рейса и наш гитарист Гера, что было очень кстати.
До армии Гера не держал в руках гитары. Оказавшись однажды в компании молодого солдата, прихватившего с собой в армию гитару, Гера, перебирая струны, увлёкся игрой – успешно освоил подбор аккордов и стал легко аккомпанировать исполнение песен. Молодой солдат, видя серьёзные успехи Геры, подарил ему гитару. После чего тот и вовсе не выпускал её из рук.
Сейчас вокруг Геры собрались солдаты и под гитарный звон стали танцевать рок-эн-рол.
«Рок, рок – чудный танец,
Изобрёл американец.
И с тех пор, танцуя рок,
Под собой не чуешь ног», -
выкрикивали они. И, осмелев, продолжали:
«Что за терем-теремок –
Он не низок, ни высок:
Из трубы валит дымок,
А внутри лобают рок».
И далее:
«Затрещали потолки:
Веселятся чуваки –
Устоять никто не мог,
Потому что это рок».
Солдаты вошли в раж, и выкрикивали:
«Веселятся чуваки,
Не танцуют слабаки».
Под конец один тенор резко выделился:
« Я совсем от танца взмок –
Ухайдокал меня рок».
…Аккордеонист заиграл «Калинку», и все начали исполнять плясовую. После чего Гера переключился на «Чарльстон». Ноги солдат, обутые в тяжёлые кирзовые сапоги, и ножки девушек – в лёгких туфельках, в такт гитарных ритмов взлетали в стороны пятками вверх. А в зале раздавались слова:
«Повторяю я снова и снова,
Повторяю опять и опять:
Для тебя я всё сделать готова,
Б а б у ш к а,
Научи «Чарльстон» танцевать!»
Завершились танцы «Леткой-енкой». Ребята и девушки, держа друг друга за талию, несколько раз вереницей прошлись в танце по залу клуба.
Расходились под звуки вальса «На сопках Манжурии». Вечер танцев удался. И повторялись такие вечера при первой возможности. Капитан Полянский, наш командир, не любил застойную, вялую жизнь.
…Через некоторое время мы передислоцировались в другой район. В один из воскресных дней мы, несколько солдат из хозяйственного взвода, решили прогуляться по посёлку Кульма, в котором располагались. Проходя по одной из улиц, увидели местных девиц, высовывающихся из окон общежития. После обмена несколькими фразами зашли к ним в дом. Завязалась непринуждённая игривая беседа. Девушки оказались строителями, они занимались внутренней отделкой «хрущёвских» поселковых домиков.
Я присел на табуретку возле кровати, на которой расположилась одна из девушек. Она была в халатике, ноги без чулок обуты в босоножки. Общая беседа была в полном разгаре, когда я вдруг почувствовал резкий запах пота. «Вроде смазливая девушка, а в таком состоянии содержит свои ноги», – брезгливо подумал я. Сразу пропал интерес к легковесной беседе. И вскоре я покинул общагу. А когда все парни собрались в расположении, я возмутился: «Надо же, вроде девки – ничего из себя, а как пОтом несёт от ног. Меня чуть не стошнило». Рядовой Баикин так громко расхохотался, что я удивился: «Ты чего?» На что он, всё ещё смеясь, отреагировал: «Так это же от моих ног так воняет».
«Как может вонять от ног, которые в сапогах?» – изумился я. «А вот так, – заговорил он. – Мои ноги даже через сапоги исторгают аромат застаревшего сыра».
В армии людей для общения не выбирают. Здесь рядом может оказаться кто угодно. Баикин не производил приятного впечатления. У него было семь классов образования. Очертания его усатого лица отдалённо напоминали лик бурого медведя. До армии, по его рассказам, он жил за счёт женщин, был приживальщиком, состоял альфонсом при увядающих дамах. Его рассказы об этих отношениях не были привлекательными, во всяком случае, для меня. Да и здесь в посёлке Баикин как-то собрал вокруг себя местных мальчишек и, наигрывая на гитаре, пел им пахабные блатные песни. Я попытался было поднять его на смех, надеясь, что перестанет. Но его это только подхлестнуло. Тогда мы, несколько солдат, просто оставили его, и зашли в клуб. Вскоре и он последовал за нами.
…После завершения уборки пшеницы наша командировка не закончилась. Весь армейский «контингент» был эшелоном отправлен из Оренбурга на Украину. Ротный командир сменился: Вилиор уехал на поправку домой. А нам назначили другого капитана, который хотя и был такого же роста, как Вилиор, но особо ничем не выделялся, оказавшись типичным скромным служакой.
Ехали мы гораздо веселее, чем на «целину». Мы уже достаточно знали друг друга, а, находясь в пути, ещё и «спелись». Гера буквально не выпускал из рук гитару. Да и где ещё можно отвести душу в песнях, как не в дороге? А тут ещё оказался в нашем вагоне другой музыкант – Юра Павленко, из соседнего подразделения. На «целине» солдаты «скинулись» и купили гармошку-«хромку», на которой он выделывал просто чудеса. Юра был детдомовцем и «на слух» без всякого музыкального образования в своё время «освоил» стоявшее в углу бесхозное старое пианино. Музыкальные навыки пригодились, и теперь он мог аккомпанировать на гармошке что угодно. Поражало всех то, как благодаря его таланту, двухрядная гармоника, превозмогая свои возможности, исторгала звуки «Лунной серенады», под которые мы громко пели:
«Куда бы от меня
Не скрылась ты,
Повсюду за тобой
Мои мечты…»
Из окон нашего вагона раздавались:
то заунывные прощальные солдатские песни –
«На перроне вокзала
Мы простились с тобой,
Ты «прощай» мне сказала,
Помахала рукой…»,
то о долгожданной встрече с любимой –
«Ты обнимешь меня
Своей нежной рукою,
С глаз твоих серебристых
Покатится слеза.
И опять закружатся
В небе хмуром снежинки,
Как когда-то кружились
Для тебя и меня…»,
то, посвящённые матери –
«Нежной, ласковой самой
Письмецо своё шлю,
Мама, милая мама,
Как тебя я люблю».
И, конечно же, песенка про шофёра, ведь большинство здесь были
водителями:
«Вовсе не страшны
Ни дождь, не слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось
Любимой плакать,
Крепче за баранку
Держись, шофёр».
Охотно распевались песни «Листья жёлтые», «У разведённого моста», «Палуба» и об Ангаре:
«А река бежит, зовёт куда-то,
Плывут сибирские девчата
Навстречу утренней заре
По Ангаре, по Ангаре».
«Палубу» Шпаликова пели с удовольствием. Светлая простота мелодии и слов завораживали нас. В нашем исполнении как-то само собой появилось и продолжение песни, с которой не хотелось расставаться. После слов: «Мы по палубе бегали, целовались с тобой», мы завершали песню куплетом, которого не было у автора:
«Пароход белый-беленький
Он плывёт по реке.
Поцелуй твой останется
У меня на щеке».
Особенно полюбилась песенка «Проводница». Неизвестно, откуда она взялась, но пели мы её с удовольствием. А когда останавливались на станциях и напротив нас оказывались составы, у вагонов которых встречали отъезжающих одетые в форму проводницы, мы под струны гитары выдавали эту песенку так, что удивлённые проводницы смотрели на нас зачарованно. Ведь это было неожиданно и так кстати:
« От чего же мне не спится,
От чего бессонница? –
Я влюбился в проводницу,
Не могу опомниться.
Припев:
А у этой проводницы
Шелковистые ресницы.
Ты мне долго будешь сниться,
Проводница, проводница.
И все подхватывали:
Ты мне долго-долго-долго
Будешь сниться,
Проводница, проводница.
Но упрямо сторонится
Пассажирской нежности
Молодая проводница
Симпатичной внешности.
Припев.
Я расстаться не сумею
С чарами коварными
И тоску свою развею
Струнами гитарными.
Припев.
…Распределилась воинская группировка в пределах Полтавской области. По пути в место назначения нашего подразделения встретился указатель с надписью «До Диканьки 30 километров». Так что мы попали в гоголевские места. Поразило то, что все украинские селения соединялись асфальтными дорогами не то, что на «целине». Домики в хуторах и деревнях были красивые, словно игрушечные, и добротные. Крыши покрыты черепицей и камышом. Причём камышинки на кровле подобраны одна к одной. Во дворах чистота и опрятность. Смущало только то, что в сёлах и даже в домах не было бань. Поэтому нам пришлось осваивать походные солдатские «душевые», представляющие собой просторные специально оборудованные палатки.
Солдаты-шофёры должны были вывозить свеклу с полей в заготовительные пункты близ сахарных заводов. Разместился личный состав небольшими группами в хатах местных жителей. В основном все обустроились хорошо. Наш хозвзвод группировался около командира роты, и был у него на подхвате. Поселились мы у вдовца – невысокого крепкого мужичка по фамилии Конотоп. С основными перевозчиками свеклы мы соприкасались лишь периодически. В один из таких моментов я встретился с парнем – ефрейтором Помыткиным, на лице которого была улыбка до ушей. «Как живёшь?» – спрашиваю у него. «Живу, что надо!» Он был очень доволен своим положением. Не удержался и похвастался: «Нахожусь в подчинении у женщины лет сорока, которая сопровождает меня от места сбора свеклы до назначения груза, и обратно. Постоянно находимся вместе». Солдат был вне себя от радости – « бабье лето» их очень сблизило. «Слушай, а она случайно не замужем?» – нескромно поинтересовался я. «Замужем, но её муж нам не помеха. К тому же, по её словам, он болен».
…Я собрался идти на почту, чтобы забрать корреспонденцию, которая поступила на наш адрес. Со мной изъявил желание пройтись фельдшер Сомов – младший сержант второго, как и я, года службы. Он немного задержался в саду, откуда вышел с белыми хризантемами. «Не волнуйся, – сказал он, – наш хозяин Канатоп позволил мне изредка срывать цветы, только в разумных пределах. Хочу порадовать Верочку».
– Что за Верочка?
– Ты что не обратил внимания на Верочку? Да это же работница почты, она там старшая.
«Фельдшер Сомов» (так мы его звали) после окончания медицинского училища попал в армию. Служба его сразу же определилась – он постоянно находился при санчасти. А здесь он был санинструктором.
Войдя в помещение почты, я увидел «аккордеониста» Гуленко, который на «целине» играл на танцах вальс «На сопках Мнжурии» и «Калинку». Он стоял у стойки, за которой сидела симпатичная девушка.



