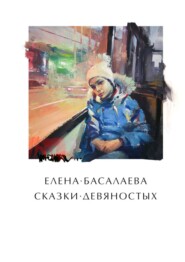скачать книгу бесплатно
Однажды, когда третий класс подходил к концу (четвёртого у нас в те годы беспрерывных школьных экспериментов не полагалось), мы с Вовкой стояли на мокром от дождя крыльце школы. Был апрель, дул свежий ветер, который окончательно должен был переменить погоду на тёплую, весеннюю. Ветер свистел в ещё голых ветках тополей, неистово трепал яркий российский триколор над входом школы и вносил в моё сердце странное чувство тревоги, смешанной с радостным ожиданием чего-то нового, неизведанного.
Вовка разложил на ровной земле клумбы несколько игрушек из киндер-сюрприза и внимательно смотрел на них.
– О чём ты думаешь? – спросила я его.
Он пожал плечами:
– Обо всём сразу. А ты?
Я запахнулась в свой голубой плащ, огляделась, нет ли кого рядом:
– Я думаю о нас с тобой. Знаешь, я думаю вот что: давай поженимся, когда вырастем.
Мне показалось, что Вовка долго молчит, и я добавила:
– Я красивая буду, как Вероника Кастро.
Мой друг слегка поправил:
– Ты и сейчас красивая.
– Нет, – не согласилась я. – Сейчас – это не то. Знаешь, Володя, я уже хочу иногда повзрослеть.
– А я – нет! – резко возразил он. – Что хорошего у взрослых? Даже моих папу с мамой послушаешь – как они друг друга называют, когда ругаются?! У нас сейчас здорово, мы не ссоримся. Захотим – залезем на гараж, захотим – через забор перелезем! И придумаем себе что угодно. Помнишь, мы возле беседки сокровища искали?
Я представила, как мы с мальчишками по очереди ковыряли землю железным совком и самые красивые камушки, кусочки стёкол и кирпичи складывали в нашу сокровищницу.
– Я не хочу, чтоб третий класс кончался, – упрямо проговорил Вовка. – Зачем ты говоришь про то, что будет потом?
– Потому что я хочу быть с тобой всегда, всегда, – сказала я. – Для этого, мне кажется, надо пожениться.
– Но мы и так с тобой как будто женаты, – ответил он мне истинно по-мужски. – Всегда вдвоём и помогаем друг другу. А Сашка с Семёном и с Васькой как будто наши дети. Ну, понарошку.
– Ага, – улыбнулась я.
Мы замолчали на какое-то время, а потом Вовка сказал:
– У меня бабушка заболела. Что-то с сердцем. Мама говорит.
Я сочувственно кивнула ему:
– Мы её не оставим. Когда она станет совсем старенькой, мы будем жить у неё и за ней ухаживать.
Вовка крепко сжал мою руку.
* * *
В первый день пятого класса школа предстала передо мной нарядной, сияющей свежей краской и – неожиданно маленькой. Внутри впечатление только усилилось. На стенах в холле изобразили каких-то древних беседующих мудрецов, лестницы покрасили в торжественный пурпурный цвет, обновили картины. Школа была праздничной и красивой, но она уже не казалась мне целым миром. Она стала просто зданием, пусть и близко знакомым. Я впервые увидела, что на первом этаже по правую руку всего-навсего четыре кабинета.
Перед уроками я подумала зайти к Раисе Ивановне. Дверь в её класс была открыта, и за первой партой, на моём месте, сидела маленькая девочка с двумя аккуратными бантиками, похожими на белые лилии. Моё сердце сжалось от болезненного ревнивого чувства. Я не стала заходить внутрь и поднялась наверх.
Первым уроком у нас была история. В кабинете, где она проходила, всю заднюю стену занимали фотообои с изображением гор. Эти горы почему-то понравились мне. За время урока я два или три раза оборачивалась на них. Горы были крепкие, высокие, утопали вершинами в чистом небе. С левого края чернели размытые силуэты елей, а впереди на лугу были пронзительно-синие, с жёлтой сердцевинкой цветы – яркие брызги радости на фоне суровости камня.
Учительница была ничего себе, вроде не злая. Она передавала по рядам какие-то фотографии с костями и картинки древних людей, рассказывала про раскопки. Однако я слушала её невнимательно, потому что место рядом со мной пустовало. В классе была Даша, сидевшая с Катей Мустяца, была Вика Иваницкая – в модном жакете с леопардовым воротником, вельветовой юбке и красных колготках, был кучерявый Котляренко. Но Володя не приходил. Я замерла, когда за дверью послышался какой-то стук, и думала, что он сейчас войдёт в класс. Но люди прогрохотали чем-то и ушли, и со мной осталась гулкая тишина мыслей.
На перемене я долго не выходила из класса, пока Мустяца не крикнула мне:
– Эй! Пошли отсюда, теперь уроки в разных местах!
Нехотя я попрощалась с горами и пришла во второй кабинет, на русский язык. Доставая с тяжёлым сердцем учебник и тетрадь, я уже подумала, что Вовка, может быть, сегодня не придёт. Кто знает, может, он вообще перевёлся в другую школу…
Но мой слух уловил его голос: он уже стоял в дверях и показывал какого-то трансформера Лёшке Богданову. Я встрепенулась от радости и тут же замерла: ведь теперь у нас началась новая жизнь, которой он так боялся. Теперь он может забыть обо всём, что было, и сделать вид, что никогда со мной не дружил…
Но он уверенно прошёл мимо парт и поставил свой рюкзак на соседний с моим стул:
– Вместе? – с улыбкой спросил он.
– Вместе, – ответила я.
Глава 3
Тётушки
На одной из чёрно-белых фотографий – пахнущих фиксажем, с отломанным уголком – меня, месячного младенца, держит на руках широколицая женщина с короткими волнистыми волосами. Она кажется слишком пожилой, чтобы приходиться мне матерью, и, судя уже по другим фото в этом альбоме, слишком не похожей на меня и для того, чтобы быть бабушкой.
Это – тётя Тома, подруга, или, как она всегда скромно себя называла, приятельница моей мамы. С матерью они познакомились в пионерском лагере, где моя родительница была фельдшером, а Тамара Николаевна – медсестрой. В какой-то момент я узнала, что в их компании была и третья подруга – некая Марина, которая умерла, попав под машину. О её смерти горевали и тётя Тома, и моя мама. Эта Марина смотрела на меня с другой фотографии, где все три приятельницы, обряженные в спортивные штаны и «дачного» вида кофты, сидели на пикнике, счастливо улыбаясь.
Тётя Тома была рядом с тех самых пор, как я появилась на свет. Мама родила меня поздно, почти в сорок, а её приятельница была старше на целых семь лет, и её сын Родион был уже взрослым парнем. Муж тёти Томы, бывший детдомовец, потерявший в Великую Отечественную войну обоих родителей, умер от инфаркта совсем молодым. Другого брака и других детей у тёти Томы не случилось, единственный сын был пока не женат, и всю нерастраченную любовь, все горячим ключом бившиеся в ней материнские, родственные чувства она обратила на меня и на мою маму.
Она приходила раз в две или три недели, раз в месяц – в крайнем случае. Телефон у нас появился только в девяносто шестом году, а до этого её приход каждый раз был для меня приятным сюрпризом. Впрочем, мне кажется, что я шестым чувством угадывала – должна она была прийти в эти выходные или нет.
Тётя Тома всегда приносила с собой какую-нибудь снедь: оладьи из гречки, печенюшки на рассоле, а летом и ранней осенью – фрукты «с базы». Совсем маленькой я думала, что база – это какое-то чудесное место, где можно купить много вкусного совсем задёшево, и мечтала там побывать.
Приезжая к нам, тётя Тома обедала, всегда восхищаясь стряпнёй моей мамы, и неизменно спрашивала:
– Ну, Любочка, чем тебе помочь?
Мама немного сопротивлялась, но отказать тёте Томе было невозможно, и приходилось назначать работу. Тётя Тома то ходила в аптеку, то вытирала в шкафах пыль, но чаще всего садилась вязать крючком или чинить ветхое постельное бельё, закрывая каждую дырку белым кружевным цветком.
Пока мама колдовала на кухне, мы с тётей Томой разговаривали. Я охотно рассказывала ей о школе, о книжках, которые читаю, а она делилась со мной познаниями из всякой мистико-оздоровительной литературы, которой с конца восьмидесятых в нашей стране было пруд пруди.
В начале девяностых тётя Тома, как и моя мама, смотрела передачи Алана Чумака. Телевизионный целитель говорил, что на расстоянии заряжает воду, фотографии, «крэмы», и доверчивый народ приносил всё это прямо к экранам телевизоров, ожидая, что с голубого экрана польётся «положительная энергия». Тётя Тома долго пыталась лечиться «заряженной» водой, но потом разочаровалась в этой методике и решила обратиться, как сказали бы сейчас почитатели «Гарри Поттера», к травологии. Хвалила она и журнал «ЗОЖ», читала мне из него вслух письма и даже несколько раз делала вместе со мной гимнастику по описанным там упражнениям.
Она любила природу и стихи русских поэтов о природе. Весной тётя Тома собирала в пригородных лесах почки и листья мать-и-мачехи. Как сейчас помню бело-золотую, всю светящуюся радостью берёзовую рощу Студгородка. Тугие шоколадные почки ещё не начали распускаться, но тонкий острый запах свежего листа уже чувствовался, если наклониться к веткам. Мы отшелушивали берёзовые почки, ссыпали их в банку, собирали хрупкие серёжки ольхи, молодые сосновые иглы, однажды отыскали гриб чагу – у тёти Томы всё шло в дело, всё становилось лекарством.
– Ты посмотри, Лена, какая красота, – говорила она мне. – Когда у тебя будет возможность – всегда ходи на природу. Природа нас лечит. Вот прислонись к берёзе, обними её. Почувствуешь, как она тебе энергию дарит для жизни.
Мне, по правде говоря, куда больше хотелось обнять тётю Тому, но я послушно гладила белокорые деревья и как будто действительно чувствовала исходящую от них силу родной земли.
Мы ходили не только в лес. Тётя Тома впервые познакомила меня с театром. Она привела меня, ещё, наверное, дошкольницу, на представление в ГорДК, а потом несколько раз в год покупала билеты в театр музыкальной комедии. Деньги на билеты и на пирожные в буфете давала мама, но спектакли выбирала сама тётя Тома.
– Ты столько работаешь, Люба, тебе надо отдохнуть, – говорила она маме сочувственно. – Посмотри телевизор, а я погуляю с Леной.
«Мускамедия» (так я слышала название этого театра в детстве, не понимая лет до одиннадцати, что это сокращение от «музыкальная комедия») мне понравилась. Там были высокие потолки, мраморный пол, огромная люстра со множеством лампочек-свечек и, главное, – музыка и песни, почти всегда весёлые.
И всё же ещё сильнее «мускамедии» я любила бывать дома у моей названой тётушки.
* * *
Она жила (и живёт до сих пор) на улице Калинина, куда и сейчас ходят только два автобуса и один весьма непостоянный троллейбус, а в пору моего детства ни пехотою никто не прохаживал, ни на добром коне не проезживал. Чтобы попасть к тёте Томе, мы доезжали на «рогатом» до остановки «Кинотеатр Космос» (теперь там был ресторан), высаживались, совершали рискованный переход через оживлённый перекрёсток с плохо работающим светофором и шли, шли, шли вдоль по серой улице Маерчака где по одну сторону была тюрьма, по другую – дрожжевой завод, разносивший квасной запах зимой и летом. Элегантное здание «Космоса» оставалось позади, а дальше начинался хаос – дикие места.
Мы проходили мимо магазина с отбитой буквой «СДЕЛАЙ АМ», мимо зелёных заборов с цветастыми афишами, через мостик над бурлящей и грязной Качей, мимо заброшенного дома с выбитыми стёклами.
Тётя Тома жила в кирпичной двухэтажке, старенькой, уютной и пахнущей кошками. Кошачий запах стоял и у неё дома: в тёти Томиной квартире обитала рыжая Мурза – красавица со своенравным характером, ревновавшая хозяйку ко всем приходящим людям. Мурза встречала меня недоверчивым шипением, но я всем видом показывала ей, что не претендую на её территорию, и прямиком проходила на кухню, шелестя самодельными занавесками, сделанными из скрепок и кусочков открыток.
Тётя Тома кормила меня щами из свежей капусты, в которые старалась положить побольше сметаны, оладьями (их в девяностые пекли из всего – картошки, моркошки, кабачка, гречки), орешками со сгущёнкой. Её фирменными блюдами были греческий салат, торт «Черепаха» и «ананасовый» компот. Но если салат и замысловатый торт готовились только по торжественным случаям, то компотом тётя Тома баловала близких частенько. Его секрет заключался в том, что ананасом в этом бюджетном чудо-напитке и не пахло. Он делался из обыкновенных кабачков, нарезанных кубиками и отваренных в крепком растворе порошка «Зуко». Этот ядрёный напиток в годы моего детства был страшно популярен: о химическом составе народ особенно не задумывался, а на сладкое и красивое был падок. Кроме «ананасового» компота, варили и виноградный – с изюмом, и яблочный – тут уж с настоящим яблоком. Но «ананасовый» был вкуснее всех.
– А пахнет-то как! – хвасталась тётя Тома. – Хо-хо!
Это «хо-хо» она произносила с интонацией удивления и восхищения, иногда – с оттенком лёгкой печали.
Изредка мы смотрели второй канал по чёрно-белому телевизору, но чаще разговаривали. Тётя Тома рассказывала мне о своём покойном муже, за которого она вышла, по меркам советского времени, поздно, лет, кажется, около тридцати, и через год родила сына:
– Жили мы, Леночка, в деревянном бараке, на первом этаже. Нам с Федей комнату дали пятнадцать метров. Печка дровяная из коридора топилась. Сыро там было, ой как сыро! По ночам мокрицы ползали. И по стенам, и аж с потолка сыпались. Ой как я их боялась. Главное, боялась, что Родику в ухо или в рот заползёт мокрица. И Федя их ловил. Они лезут, а он их тапком, тапком. Я жалела его: ты наработался, спи, говорю. А он: нет, ты тоже за день с ребёнком устала, ты отдыхай, а я покараулю. Хороший он был, Феденька!
Слушая этот рассказ, который тётя Тома повторяла не раз и не два, я поверила в то, что мужчина может любить – может ради твоего покоя ловить мокриц по ночам в сыром деревянном бараке.
Муж тёти Томы, любимый её Феденька, недолго зажился на свете и оставил жену с девятилетним сыном. Этого сына я, конечно, видела не раз – в пору моего детства уже статного, высокого молодого человека с гагаринской улыбкой.
В большой тёти Томиной комнате стоял аквариум с разноцветными рыбками – как она их называла, гуппёшками. В аквариуме была красивая подсветка, водоросли, камушки. Однажды, когда мы были у тёти Томы в гостях вместе с мамой, мне вдруг страшно захотелось унести к себе хоть частицу этого волшебного красивого мира, уютного тёти Томиного дома. Я выловила одну рыбку сачком, схватила полиэтиленовый пакет, плеснула туда воды и опустила гуппёшку. Дома я налила воду в пластмассовый оранжевый пенал и положила туда рыбку, насыпав ей чуток сухарных крошек. Пенал я спрятала в тумбочку.
Рыбка наутро умерла, потеряв краски. Глаз у неё стал одноцветный, серый, а брюшко вздулось. Украсть волшебство не вышло.
Можно было только самой стать его частью.
Я была безмерно рада, когда тётя Тома предложила нам с мамой встретить новый год у неё. Тогда я уже училась в шестом классе, автобусы стали ходить лучше, и мама согласилась заблаговременно приехать к приятельнице и вместе приготовить ужин. Впервые я увидела, как делают своими руками пельмени, и даже раскладывала фарш. В полночь под бой курантов мы выпили по бокалу диковинного напитка «Спрайт», пожелали друг другу всего доброго, послушали песни в «Голубом огоньке». Я отправилась спать счастливой, ощущая себя частью очень странного, но всё-таки семейства.