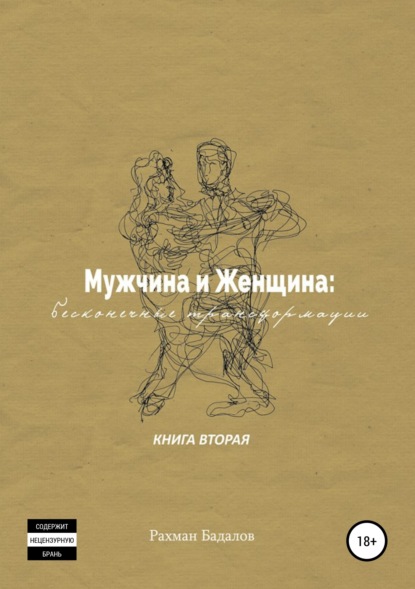 Полная версия
Полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга вторая
По одну сторону баррикад оказалась вся гамма человеческих экзистенциалов, которые с таким блеском выявил Хайдеггер, по одну сторону баррикад оказалось то высокое, что заставляет мужчину творить, становится демиургом, равным Богу, а женщине сострадать этому мужчине, разделяя его высокую миссию, по другую сторону баррикад – то во что нередко низводятся отношения между мужчиной и женщиной, когда побеждают das Man, когда обезличенность и усреднённость выдаются за норму жизни, а пошлое следует по пятам за высоким, грозя окончательно его поглотить.
По одну сторону баррикад оказался мужчина, который стал составной частью одного из самых отвратительных проявлений мужской доминации, по другую сторону – женщина, которая проявила невероятную стойкость перед вызовом истории, и которой удалось сохранить себя, сохранив своё женское естество.
По одну сторону баррикад оказался – Мартин Хайдеггер, по другую – Ханна Арендт.
…после 1933 года: ХайдеггерВ годы нацизма Хайдеггер открыто примкнул к национал-социалистическому движению, стал ректором Фрайбургского университета. Стал не случайно, не по воле случая, а в результате расчётливо проведённой борьбы, искусно (скорее ловко, даже подло) пользуясь нацистской риторикой. Позже, выполняя своё предвыборное соглашение, торжественно вступил в национал-социалистическую рабочую партию – партию Адольфа Гитлера[785].
Через несколько месяцев в качестве ректора он написал обращение к немецким студентам, в котором были такие строки:
«Сам фюрер, и единственно он, есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность и её закон», и подпись «Хайль Гитлер! Мартин Хайдеггер, ректор».
В это же время в неофициальном письме Хайдеггер пишет:
«… мы поставлены перед следующей альтернативой: или мы вольём новые силы и подлинных педагогов, порождённых самой почвой, в нашу немецкую интеллектуальную жизнь, или будем способствовать растущему её оевреиванию в широком и узком смысле».
…всё та же многоликая и многосмысленная почва…
Может сложиться впечатление, что Хайдеггеру импонировало то, что национал-социалистическая партия апеллировала к народному духу и к «почве», импонировало и то, что именно эта партия проявила волю и решительность, которой так не хватало Германии, поэтому он и оказался в рядах нацистов, а во всём остальном, прежде всего, в расовых вопросах, Хайдеггер не мог быть на стороне нацистов, не мог быть антисемитом, одно существование Ханны Арендт исключало подобный антисемитизм. Оказалось, что это не совсем так, женщина, тем более привлекательная женщина, которая смотрит на тебя влюблёнными глазами, отдаётся самозабвенно и самоотверженно, одно, а твои взгляды на мир, на ту же женщину, – другое.
Вот что Хайдеггер писал своей жене Эльфриде[786] в 1917 году.
…Хайдеггеру в это время 28 лет, до прихода нацизма осталось ещё 16 лет…
«Оевреивание нашей культуры и университетов, во всяком случае действует ужасающе, и я думаю, что немецкая раса ещё должна в полной мере собрать свои внутренние силы, чтобы подняться ввысь. По крайней мере, это касается капитала!»
Знал, кому писал, ему были известны антисемитские взгляды его жены. Естественно, Эльфрида оказалась рядом с мужем, когда антисемитизм стал государственной идеологией, а её муж занял высокий пост, чтобы распространять эти идеи среди студентов. Остаётся только вообразить, какие покойные годы прожила Эльфрида Хайдеггер в годы нацизма, не считаясь с тем, что происходило с людьми, которых она могла знать и с которыми ещё недавно дружески общалась.
…после 1933 года: АрендтАрендт столкнулась с ужасом, который, по мнению её Учителя, был неизбежным экзистенциалом человеческого существования, составной частью Dasein.
Сначала арестовали её, потом её мать, их обвиняли в том, что по поручению «Сионистского объединения Германии» они исследовали проявления антисемитизма в Германии. После освобождения Ханна, осознала, что необходимо уезжать из Германии. Она могла считать эту страну своей Родиной, но новая власть так не считала, главным для неё было не гражданство, а «почва», которая исключала любые проявления «еврейского».
Арендт как человек, для которого жить, кроме всего прочего означало осмысливать происходящее, не могла не задуматься над тем, что произошло в Германии с близкими ей людьми.
В своих заметках, написанных чуть позже, она писала:
«Вы же знаете, что означало «Gleichshaltung».
…Н. Мотрошилова разъясняет Н.: «"Gleichshaltung" – слово, которое после 1933 года получило широкое распространение в жизненном мире Германии; теперь оно означало духовное нивелирование, конформизм по отношению к господствующей политике и идеологии, подчинение ей. Философским прототипом – чего, увы, не опознал Хайдеггер – был его знаменитый экзистенциал "das Man"»…
Оно подразумевало, что этому процессу поддавались друзья. Ведь личная проблема состояла не в том, что творили наши враги, а как раз в том, что делали наши друзья. И тогда, на волне этой унификации, которая была достаточно добровольной, во всяком случае не исполнялась под давлением террора, вокруг того или иного человека как будто образовывалось пустое пространство. И я могу утверждать, что среди интеллектуалов, такое унифицирующее подчинение стало, так сказать, правилом. А среди других слоёв такого не было. И этого я никогда не забывала. Я покинула Германию с главным представлением: никогда больше! Я никогда не примкну к какой-либо интеллектуальной истории. Я никогда не буду иметь ничего общего с этим сообществом».
Горькие слова. Означают ли они, что Арендт считает, что нельзя больше верить интеллектуалам? Не думаю. Скорее всего, под «интеллектуальной историей» она имела в виду ту или иную форму групповщины, она имела в виду, что интеллектуальная групповщина ничем не лучше другой. И уже тогда, после того, как пришлось покинуть Германию, она начала задумываться над тем, что впоследствии подробно исследовала в своей знаменитой книге «Элементы и истоки тоталитарного господства»[787].
Может показаться, что Арендт несколько отошла от своих обязательств, когда вступила в Международную сионистскую организацию, работала во французском отделении этой организации, которая помогала евреям, стремившимся переселиться в Палестину, но это не совсем так.
Сама Аренд писала:
«Если на меня нападают как на еврейку, нужно защищать себя как еврейку. Не как немку или как гражданку мира или прибегая к ссылкам на права человека. Но что я совершенно конкретно могу сделать как еврейка? И вот тут пришло явное намерение: теперь я, в самом деле, хочу стать частью организации. В первый раз. Естественно, организовываться надо было, примыкая к сионистам. Они ведь оказались единственными, кто был в готовности… Моя собственная проблема была политической. Чисто политической! Я хотела включиться в практическую работу – исключительно и только в еврейскую деятельность».
Очень важные слова. Ханна Арендт не с теми, кто ей ближе по «почве», а с теми, кто в ней нуждается и кому она в состоянии помочь. В зависимости от ситуации она может быть и еврейкой, и немкой, и гражданкой мира, и это совсем не беспринципность, это понимание своей человеческой миссии. Это понимание того, что она умеет мыслить, и «das Man», в каком бы обличье они не были, не смогут действовать за неё и вместо неё.
Именно по этой причине Ханна Арендт рассталась с сионистскими организациями, как только они потеряли общечеловеческие ориентации.
Ведь, прежде всего, Ханна Арендт была гражданкой мира.
…Ханна Арендт в СШАПосле того, как Франция была оккупирована нацистами, Арендт снова пришлось переезжать. На этот раз в США, где она прожила всю свою оставшуюся жизнь.
Отметим два обстоятельства, связанных с жизнью Ханны Арендт в США.
Первое.
Евреи не чувствовали себя в США изгоями, а влиятельная еврейская община помогала им быстро освоиться в новой стране. Это в полной мере ощутила на себя Арендт. Она нашла в США друзей и соратников, снова начала заниматься интеллектуальной деятельностью и даже обрела известность своими острыми социально-политическими публикациями. Но со временем между Арендт и сионистскими организациями произошёл разрыв. Сионистские организации всё больше замыкались на себе, а Арендт было чуждо любое сектантство, любой национализм, еврейский в том числе.
И второе.
Удачным следует признать её замужество в США.
Генрих Блюхер[788] был умным и образованным человеком. В одном из своих писем Арендт отмечала, что благодаря мужу она обрела способность «мыслить политически и видеть исторически». При этом, в отличие от Хайдеггера, Блюхер серьёзно относился к творчеству Арендт, во всём помогал и поддерживал её. Крайне тактично вёл себя Блюхер в деликатных вопросах, связанных с личной жизнью Ханны.
Всё это помогло ей преодолеть горечь, которая осталась у неё после отъезда из Германии.
Мартин Хайдеггер и Пауль ЦеланР. Сафрански главу, в которой он описывает встречу Хайдеггера и Целана[789], предваряет рассказом о дискуссии двух собеседников, которая передавалась в 1965 году по радио. Один из собеседников – А. Гелен[790] – выступал в роли «Великого Инквизитора», другой – Т. Адорно[791] – в роли «Друга человечества».
Коротко передам суть этой дискуссии, поскольку она проливает свет и на встречу Хайдеггера с Целаном, и на последующую встречу с Арендт.
Оба собеседника, и «Великий Инквизитор» и «Друг человечества» были согласны в том, что «целое оказалось негативным», имея в виду и крах больших идеологий (больших нарративов), и трагическое сознание человека, который больше не находит опору в окружающей реальности.
Проблема оказалась в том, что преодоление «несовершеннолетия» о котором ратовал Кант, не только не решило всех проблем, именно просвещённый («совершеннолетний») человек развязал большие войны, а в новой исторической и социальной реальности превратился в «винтика», которым также легко манипулировать, как и не просвещённым («несовершеннолетним»).
Каков же выход? Конечно, участники дискуссии и не рассчитывали на то, что в одной дискуссии им удастся решить столь сложные вопросы трагического бытия человека после двух кровавых войн XX века. Но одну трагическую антиномию – если говорить в кантовских категориях – они смогли выявить.
Действительно, самостоятельно мыслящие люди больше не способны что-то изменить в мире, попытка «плавать самостоятельно» привела их к трагической изоляции в мире беснующейся толпы. Оказалось, что социальные институты не только не освобождают мыслящего человека, но могут ещё более закабалить его.
Человек, если он человек мыслящий, не должен освобождать себя от бремени ответственности за своё присутствии в этом мире, даже если социальные институты больше не предоставляют ему необходимую социальную свободу, но при этом, если он смирится со своей социальной беспомощностью, откажется от бремени социальной ответственности, его жизнь, даже его благополучие, окажутся пустой видимостью, мыльным пузырём.
Человек больше не в состоянии просчитать последствия своих поступков, но это не означает, что он должен отказаться от самоопределения и самостояния, он никогда не должен смириться с тем, что освобождение от бремени (ответственности, самоопределения, самостояния) кто-то сочтёт естественной антропологической константой.
И чтобы далее не утяжелять текст философскими доводами, приведу поэтический довод Т. Адорно:
«Да, мир труден для восприятия, но давайте оставим человеку зыбкие надежды на спасение, что ещё сохраняются в воспоминаниях о детстве, в поэзии, в музыке, в "метафизике в миг её крушения"».
Молчание Хайдеггера по поводу его нацистского прошлого, говорило и о том, что он старался избежать этой трагической антиномии, по крайней мере, когда речь шла о его собственной жизни. Это особенно отчётливо проявилось в его встрече с Паулем Целаном.
Пауль Целан, еврей по происхождению, случайно уцелел в нацистском лагере, в котором погибли его родители. С 1948 года он жил в Париже, стал одним из лучших европейских поэтов послевоенного времени. Начиная со школы, он соприкоснулся с проявлениями антисемитизма и писал своей тёте в Палестину «что касается антисемитизма в нашей школе, то я мог бы написать тебе об этом книгу объёмом в 300 страниц».
В Париже он увлёкся философией Хайдеггера. Как оказалось, Хайдеггер в свою очередь интересовался поэзией Делана.
В 1967 году во Фрайбурге предстояло выступление Делана и организаторы выступления послали приглашение Хайдеггеру. Тот ответил устроителям:
«Я уже давно хочу познакомиться с Паулем Целаном. Он дальше всех продвинулся вперёд, но, как правило, предпочитает держаться в задних рядах. Я знаю о нем всё, знаю и о тяжелом кризисе, из которого он сам себя вытащил, насколько это вообще по силам человеку… Было бы хорошо показать Паулю Целану и Шварцвальд».
…что означает «знаю всё» и почему надо показать Целану Шварцвальд?…
Послушать Делана пришло более тысячи человек, никогда прежде он не выступал перед такой большой аудиторией. В первом ряду сидел Хайдеггер.
После выступления, когда поэта окружила толпа слушателей, кто-то предложил сфотографироваться на память. Делан вдруг резко заявил, что фотографироваться с Хайдегером не желает. Хайдеггер сохранил невозмутимость: «он не хочет – что ж, оставим это».
В завершение вечера все снова собрались вместе, чтобы выпить по бокалу вина, Хайдеггер предложил Целану на следующее утро поехать побродить по Шварцвальду, тот согласился. Когда же Хайдеггер ушёл, настроение Целана резко изменилось, он стал приводить всевозможные возражения против предложения поехать в Шварцвальд и, в конце концов, прямо заявил, что ему трудно находиться рядом с человеком, о чьём сомнительном прошлом он не может забыть.
Непоследовательность поступков Целана объяснялась его внутренним смятением: работы и сама личность фрайбургского философа производили на него большое впечатление, но с другой стороны он не мог забыть судьбу своих родителей и нацистское прошлое Хайдеггера.
На следующий день Целан всё-таки поехал в Шварцвальд, хотя можно представить себе каких внутренних усилий это от него потребовало. Много часов они провели вдвоём в «хижине» Хайдеггера, после чего Целан оставил такую запись в книге для посетителей:
«Пишу в книгу для гостей хижины, не отводя взгляда от колодезной звезды, с надеждой в сердце на грядущее слово».
О чём много часов говорили в «хижине» Хайдеггер и Целан, осталась ли горечь в душе Целана после этой беседы? Нам это неизвестно, но один из друзей Целана рассказывал, что несколько часов спустя он встретил в гостинице поэта и философа, оба были в приподнятом настроении. Казалось, что Целан сбросил с души огромную тяжесть. На следующий день он уехал из Фрайбурга в хорошем настроении и несколько дней оставался в таком же состоянии духа. Он даже написал стихотворение «Тодтнауберг»[792]:
Арника, василёк, где в книге,
глоток из колодца под в сей день, строка
кубом со звёздами, о надежде
в той в сердце
хижине, на мыслителя
где в книге той – грядущее (вот
чьи имена там вписаны уже грядущее)
перед моим? – слово
Стихотворение заканчивается так
«…Лес, пустошь, тряскаЯтрышник[793] с ятрышником, порознь,позже, в пути, проступаетрезкость,везущий нас, тот человек —он слушает тоже,кое-какпроложены гатив болоте,влажно, топь».Обратим внимание, что в стихах есть и «надежда в хижине», и «слово, исходящее из сердца мыслителя», и «в пути проступает резкость», и «в болоте, влажно, топь».
Хайдеггер и Целан встречались ещё несколько раз, обменивались письмами. Когда они встретились в последний раз, Целан в большой аудитории читал свои стихи. Хайдеггер слушал сосредоточенно, мог потом дословно цитировать целые строки, но во время дискуссии Целан, при всех, обвинил его в невнимательности. Оба расстались в подавленном состоянии.
Летом 1970 года Хайдеггер собирался показать Целану гельдерлиновские[794] места на Верхнем Дунае. Не получилось, весной этого же года Пауль Целан покончил с собой.
Когда Хайдеггер и Целан прощались в последний раз, Хайдеггер «глубоко взволнованный», сказал окружающим: «Целан болен – неизлечимо».
Скорее всего, так оно и было, Хайдеггер был «глубоко взволнован», Целан был болен неизлечимо. И всё-таки в словах «болен неизлечимо» есть лукавство, ведь болезнь была следствием душевных мук, не так-то просто было проложить «гати» в болоте, не так-то просто было выбраться из «топи», после всего того, что случилось с Целаном и с его близкими, и после нескольких часов в «хижине», даже если после этого он казался в приподнятом настроении.
Целана раздирала трагическая антиномия, и не было иного выхода, как покончить с собой.
Хайдеггер искренне собирался расположить к себе Целана, но так, чтобы избежать трагических вопросов. Ему не хватило мужества вступить на мост, под которым разверзлась бездна.
А просёлочных дорог в этом случае не было.
…метафора мостаМетафора «моста» возникла в моём воображении после знакомства с идеями Габриэля Марселя[795] и Рейнхольда Шнайдера[796] в изложении Рюдигера Сафрански.
«Габриэль Марсель напоминает о фундаментальном смысле религии. Трансцендентность – это тот ориентир, который освобождает людей от необходимости быть друг для друга всем. Ориентир, благодаря которому они могут прекратить взваливать друг на друга ответственность за «нехватку бытия» и попеременно обвинять друг друга в том, что чувствуют себя в этом мире чужими. Им также не нужно будет с таким страхом бороться за собственную идентичность, если они смогут поверить, что по-настоящему их знает только Бог… Тем самым она (трансцендентность) даёт человеку мужество, потребное для осознания его бессилия, его бренности, его способности ошибаться и быть виновным. Но она также даёт силы, чтобы жить с подобным сознанием, и в этом смысле представляет собой духовный ответ на вопрос о пределах того, что способен осуществить человек».
Рейнхольд Шнайдер считает, что «История – это мосты, которые Бог воздвигает над немыслимыми безднами. Мы должны пройти по мосту. Но каждый день мост чуть-чуть удлиняется, может быть, всего лишь на один шаг… Мы идём в иной, совершенно чуждый нам мир… История не обрывается, и всё же её преображения представляются нам крушениями…».
Метафора, которая возникла в моём воображении, имеет более локальный смысл. Не претендую на фундаментальные проблемы человеческого бытия, мне достаточно того, что предлагаемая метафора помогает понять некоторые стороны взаимоотношений между Хайдеггером и Арендт (в какой-то степени и между Хайдеггером и Целаном) после Большой войны.
Представьте себе мост, по которому навстречу друг другу движутся два человека.
Они бесконечно близки друг другу, поэтому и движутся навстречу друг другу.
Они бесконечно далеки друг от друга, многое их разделяет, настолько, что в иные времена они должны были бы драться насмерть, существование одного исключало бы существование другого.
Они умные, их можно назвать мыслителями, они понимают, что не должны заглядывать в бездну под мостом, в этом случае они не смогут двинуться навстречу друг другу.
Но они не могут позволить себе сентиментальность, они не могут делать вид, что нет бездны под мостом, по которому они идут навстречу друг другу.
Они должны понять трагизм своего положения. Но трагизм не означает невозможность, безнадёжность. Как не парадоксально, «невозможность» и «безнадёжность» несут на себе печать сентиментального разочарования, а не трагического приятия мира.
Они должны понять трагизм своего положения, но вести себя мужественно, т. е. не останавливаться на мосту, не поворачивать вспять, продолжать идти навстречу друг другу.
Они должны встретиться, чтобы помочь друг другу. Не обвинять друг друга, напротив, поблагодарить судьбу за ту близость, которая была между ними, и которая не может исчезнуть бесследно.
Мартин Хайдеггер в послевоенные годы…После войны Хайдеггер пережил трудные годы.
Французские оккупационные власти, которые в 1945 году разместились в разрушенном Фрайбурге, остро нуждались в жилых помещениях. Встал вопрос о конфискации жилья у тех лиц, которые сотрудничали с нацистами. В «чёрный список» попал дом Хайдеггера. Супруги Хайдеггер начинают отчаянно бороться за сохранение своего дома. Хайдеггер пишет оккупационным властям гневное письмо, в котором есть такие строчки:
«Я самым решительным образом протестую против этой дискриминации моей личности и моей работы. Почему именно я должен быть не только наказан конфискацией излишков жилой площади, но и полностью лишён моего рабочего места и подвергнут диффамации перед всем городом – я бы даже сказал, перед мировой общественностью?»
Дом не конфискован, на некоторое время в него подселяют одну семью военнослужащих.
Французские власти сами не проводят расследования. «Дело Хайдеггера» поручается специальной комиссии (не суду!), в которую входят профессора, освобождённые из нацистских тюрем.
Комиссия предлагает Хайдеггеру ответить на ряд вопрос, но в целом ведёт себя достаточно доброжелательно.
Члены комиссии внимательно проверяют каждый оправдательный довод Хайдеггера. В случае, когда то или иное утверждение не удаётся ни подтвердить, ни опровергнуть, вопрос решается в пользу Хайдеггера.
Комиссия соглашается с предложенной философом версией, что после 1934 года его отношения с нацистами фактически прервались. Комиссия принимает во внимание оправдание философа, что во время своего ректорства, он не только не преследовал евреев, но даже, в рамках возможного, помогал. Вместе с тем комиссия высказывается достаточно чётко:
«…нет никакого сомнения в том, что Хайдеггер в судьбоносном 1933 г., сознательно поставил на службу национал-социалистической революции великий блеск своего имени и своё специфическое ораторское искусство – и тем самым способствовал оправданию этой революции в глазах немецкой образованной публики».
По мнению комиссии, лучшим решением была бы отставка или пенсия, однако с «предоставлением всемирно известному философу возможности вести преподавательскую деятельность хотя бы в ограниченных масштабах».
Сам Хайдеггер считал решение комиссии «инквизиторским», он предложил, чтобы комиссия запросила у Карла Ясперса отзыв о его поведении в период ректорства, рассчитывая, что это приведёт к снятию с него всех обвинений. Но этого не произошло. В отзыве Ясперса были такие строки:
«Стиль мышления Хайдеггера, который кажется мне по сути несвободным, диктаторским, некоммуникативным, будет ныне роковым в его преподавательском воздействии. Стиль мышления представляется мне куда более важным, чем содержание политических суждений»
В последующем, так или иначе, за Хайдеггера заступились многие его выдающиеся современники, которые сумели сохранить своё честное имя, хотя никто из них не сомневался в вине знаменитого философа. Заступились и французские интеллектуалы, которые были участниками французского движения Сопротивления. Более других они понимали тяжесть вины Хайдеггера, но считали необходимым переводить его книги и статьи, чтобы они стали достоянием думающей публики.
Понимая, что находится во французской оккупационной зоне, Хайдеггер не преминул этим воспользоваться, и стал писать комиссии и властям о том, что его философские работы распространены во Франции и стимулируют мышление.
Как видим, Хайдеггер изворачивается, так или иначе, оправдывая своё поведение в нацистский период.
Герберт Маркузе[797] имел все основания написать ему, в письме в августе 1947 года:
…заметим, что Герберт Маркузе по происхождению еврей, получил степень доктора литературы в университете Фрайбурга, а впоследствии вернулся во Фрайбург, чтобы продолжить изучение философии под руководством Хайдеггера…
«Вы сказали мне, что с 1934 года совершенно порвали с режимом наци и что гестапо следило за Вами. Я не стану сомневаться в Ваших словах. Но остаётся фактом: в 1933–1934 гг. Вы столь сильно идентифицировали себя с режимом, что и сегодня в глазах многих остаётесь его безусловной духовной опорой. Доказательство – Ваши собственные речи, сочинения и действия того времени… Многие из нас долго ждали от Вас слова, того слова, которое бы чётко и однозначно освободило Вас от этой идентификации, слова, которое выражает Ваше действительное отношение к тому, что произошло. Вы такого слова не сказали – по крайней мере, оно ни разу не вышло за пределы частной сферы».
Приведу также слова Ю. Хабермаса[798], тогда ещё достаточно молодого человека, который через газету адресовал Хайдеггеру вопросы, ответы на которые должны были бы прояснить отношение философа к нацизму, но ответа не получил:
«…апологетическое поведение Хайдеггера после войны, ретуширование и манипулирование, отказ публично отмежеваться от режима, сторонником которого в своё время публично себя провозгласил – всё это объясняется тем, что философу было присуще скроенное по собственной мерке миссионерское сознание, с которым было бы несовместимо признание своих ошибок и тем более вины».



