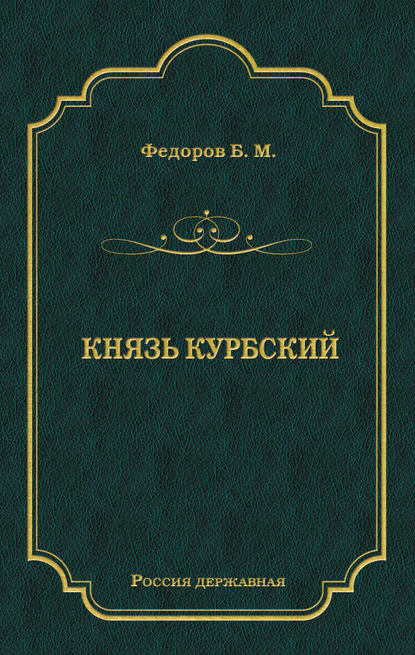 Полная версия
Полная версияКнязь Курбский
Исчислив заслуги свои, Курбский писал:
«Хотел говорить я пространнее о делах моих, совершенных на славу твою, силою Христа моего, но уже не хочу; пусть лучше знает Бог, нежели человек; Господь всем воздатель. Знай же, о царь, что уже не узришь в мире лица моего до дня преславного пришествия Христа моего, но до конца моего буду вопиять на тебя со слезами Богу и Матери Владыки херувимского, надежде моей и защитнице и всем святым, избранникам Божиим и государю праотцу моему, князю Феодору Ростиславичу. Тело его нетленное благоухает, источая от гроба струи исцеления; ты знаешь об этом! Не думай о нас как о погибших, избиенных тобою, невинно заточенных и изгнанных. Не радуйся, хвалясь бедствием их, как победою. Избиенные тобою, предстоя у престола Господня, просят отмщения; заточенные и изгнанные тобою непрестанно вопиют к Богу день и ночь. А ты хвалишься в гордости, при этой временной и скоротекущей жизни, вымышляя мучения на христиан, твоих подданных, предавая поруганию образ ангельский с ласкателями, товарищами пиров твоих, губителями души твоей и тела. Это письмо мое, до сих строк слезами моими смоченное, велю и в гроб с собой положить, ожидая идти с тобою на суд моего Бога Спасителя. Аминь.
Писано в Вольмаре, граде государя моего Августа Сигизмунда короля, с надеждой утешения в моей скорби его государевой, а более Божией милостью».
Оставив у себя список с этой грамоты, Курбский запечатал свиток перстнем. Но кому вверить грамоту для доставления Иоанну? Курбский позвал Шибанова.
– Здесь мое оправдание, – сказал он ему. – Не успокоюсь, если не прочтет царь этой грамоты, но кто осмелится передать ее Грозному? Могут утаить или истребить, а я хочу, чтобы она достигла в Москву, прямо в руки Иоанна.
– Есть боярин, на кого надежно положиться тебе, – отвечал Шибанов.
– Если ты знаешь, скажи, кто возьмет на себя труд и страх подать царю мою грамоту?
– Я, – отвечал Шибанов.
– Ты, Василий? – спросил с удивлением Курбский.
– Я, твой верный слуга, – повторил Шибанов решительно.
– И ты не страшишься?
– Готов умереть за тебя, боярин, – отвечал Шибанов, – да истосковался по Москве; хоть бы раз еще взглянуть на святые соборы! Все постыло в чужой, неправославной земле.
– И здесь земля христианская, православных не гонят, худо тебе не будет.
– Ах, князь-господин, остался у меня в Москве отец дряхлый, а пред выездом из Юрьева слышал я, что старик мой ослеп, а все от слез по Данииле Федоровиче Адашеве, с которым он был в Крымских походах. Некому будет закрыть глаза его, некого будет и благословить ему; на душе моей ляжет тяжкий грех, когда я останусь здесь. Ты, боярин, в безопасности, слуг у тебя будет много, отпусти Шибанова на Святую Русь; поживя в Москве, я возвращусь к тебе.
– Жаль твоего старика. Я готов отпустить тебя, – сказал Курбский, – но ты слуга мой: тебя погубят!
– Погубят, не моя вина, – отвечал Шибанов, – смерти не боюсь; двух не будет, одной не миновать, а грешно мне покинуть слепого отца на старости; боюсь гнева Божьего!
– Жаль мне расставаться с тобой, но, когда ты решился ехать в Москву, отвези мою грамоту. Если тебя остановят в пути, скажи, что ты послан к самому царю, а когда приедешь в Москву, подай грамоту в руки Иоанну. Может быть, совесть пробудится в нем, правда устыдит его, да и бесславно царю мстить слуге за господина. И сам же он говорил, что послов не секут, не рубят.
– Поверь мне грамоту, – сказал Шибанов, – я подам ее самому государю.
– А если тебя не помилуют?
– Грозен царь, да милостив Бог, на земле смерть, а в небе спасенье. За правду бояться нечего, а потерпеть – честно!
– Не удерживаю тебя, мой верный Шибанов, – сказал Курбский, обняв его, – снаряжайся в дорогу.
– Благодарю тебя князь, мой отец. Что же мне прикажешь на путь?
Курбский поручил проведать о жене своей и сыне, достигли ли они до Нарвы, и переслать весть из Новгорода чрез купца иноземного.
В тот же день верный слуга приготовился к отъезду, пришел взять грамоту и проститься с боярином. Приняв от Курбского грамоту, Шибанов перекрестился, поцеловал руку его и поклонился в ноги.
Курбский, как бы предчувствуя, что не увидит его более, прижал его к сердцу и, плачущий, опустил голову на плечо его. Исчезло расстояние между воеводой и слугой. Казалось, два друга прощались.
– Василий, ты едешь на вольную смерть?
– Богу живем, Богу и умираем; позволь сослужить мне последнюю службу! – отвечал Шибанов и, поклонясь еще раз своему господину, отер слезы и сел на коня.
Глава VI. Верность
В раздумье ехал Шибанов по берегу реки Аа; мысли одна другою сменялись; на сердце его было тяжко, а пред глазами далеко раскидывались поля и цепью тянулись холмы. Заря окинула розовою завесою небо, и рощи, огибая извороты реки, вдали покрывались туманом, но еще сверкала в излучинах светлая Аа, и все было тихо, все дышало весной.
Переодетый в одежду купца, Шибанов доехал до окрестности Нарвы, осторожно разведывая о Тонненберге, и узнал от встретившихся эстонцев, что Тонненберг погиб во время наводнения; о княгине с сыном говорили то же самое. Не зная ничего наверное, по обыкновению, молва прибавлялась к молве, увеличивая ужасы тем, чего не было. В Нарве о княгине, жившей тогда в эстонской хижине, не было никаких вестей, и Шибанов, поверив слухам, с убитым горестью сердцем повернул на дорогу к Москве.
Из Новгорода верный слуга через иноземного купца послал Курбскому весть о судьбе семейства его.
По большой московской дороге, на берегу Тверцы, собралось множество торжковских горожан. Ярко пылали разложенные костры, около них кружились хороводы; голосистые песни разливались из конца в конец улицы; блеск огня рассыпался искрами на глазетных повязках сельских девушек, одетых в богатые цветные сарафаны. С хохотом смотрели они на перескакивающих чрез костры смельчаков.
У ворот одного дома сидели на завалинке два торжковских купца, разговаривая о торговых делах.
– Ну что, друг, – спросил один, – купили ли у тебя коня?
– Положили на слове, – отвечал скороговоркою другой, поглаживая усы и покряхтывая, – завтра дело сладим. Не приложив тавро, коня продавать нельзя.
– Правда твоя! Мичура накликал было беду, коня купил, а к пятнальщику не привел; недельщик привязался; Мичура кошелем поплатился; недельщик отпустил душу на покаяние; а послышим – и сам попал в беду; проведал дьяк и взыскал с недельщика самосуд.
– Что дело, то дело; за самосуд поплатишься; а зачастую дьяки норовят и напраслину, благо выгода за тяжбу с рубля никак по алтыну.
– А будто худо? Зато меньше тяжб; не всякий захочет судиться.
– И поневоле захочешь, когда обижают; вот меня ни за что ни про что обидел боярский сын Щетина – по шерсти ему, собаке, имя дано – как не судиться! Хорошо бывало прежде, как вызывали на бой; дед мой говаривал: «Меня обидеть не смей, клевету не взведи, спрошу присяги и суда Божия, поля и единоборства! Хоть бы игумен то был – сам на поле нейдешь, так бойца выставляй». А дядя-то был такой удалец, что приступа к нему не было.
– Где на Щетину управу взять? Слышь ты, он со всеми дьяками в ладу, сколько на него крестьян плачутся; житье хуже холопов! То и дело, что ждут Юрьева дня, как бы перебежать поскорей к другому, и то нелегко, дело бедное, плати пожилое за двор, за повоз, по алтыну с двора, да чтобы хлеб снять с поля, еще два алтына.
– Угодил Богу, кто не давал Щетине на себя кабалу, а то за полтретья рубля[21] сгубить всю жизнь.
– Закабалить бы ему моего Петра, – сказал с усмешкою Гур. – Отдают же отцы детей в кабалу, а от Петра мне не ждать добра; глазеет по улицам, поет с молодыми парнями да пляшет в хороводах; вот и теперь шатуном бродит, благо Иванов вечер.
– Дело молодое, теперь-то и погулять. Наживет деньгу, с умом да с трудом, состроит себе и хоромы.
– К слову о хоромах: как летось был я в Москве, видел, что бояре стали строить каменные хоромы, слышь ты, как царские терема; все норовят по-новому, а каково-то будет в каменных палатах жить?
– Ну, оно так, в деревянных теплее, да ныне много и на свят Руси чужеземной мудрости! Все фрязины, немцы! От них несдобровать; навезли всякого снадобья, людей портить. До того дошло, что батюшка Грозный царь, как буря, все ломит; всех чародеев без милости губит!
– Туда и дорога! Говорят – все адашевцы; и Курбский-то был за них, да видя, что худо, бежал в Литву.
– Полно, так ли, соседушка? Спознается ли он с нечистою силою? Ведь без него бы Казани не взять.
– А разве он даром храбровал? Нет, брат, сила в нем не человечья. В проезд свой из Москвы он у меня останавливался. Я и слугу его, Василья Шибанова, знаю.
– Ахти, – сказал Гур, – вот идет покупщик мой.
– Что же, отвел ли покупного коня заклеймить? – спросил, подойдя к Гуру, человек небольшого роста с окладистой бородою, в длиннополом синем суконном кафтане, опоясанный зеленым шелковым кушаком и в остроконечной красной шапке, опушенной черной овчиной. – Деньги готовы, а мне надо ехать.
– Раньше утра нельзя, свет мой; день-то нынче праздничный, пятнальщик загулял.
– Не стал бы я ждать, если бы добрый мой конь ноги не повредил.
– Жаль такого коня, – сказал Гур.
– Как не жаль! Бывало от Москвы до Тулы сто восемьдесят верст без перемены проскачет. Отгулял свои ноженьки! Нечего делать; поглазеть хоть на хоровод.
Сказав это, он отошел от них.
– Послушай, сосед, – сказал Варлам, который стоял в стороне и всматривался в боярского служителя, – остерегись!
– А что такое? – спросил тихо Гур.
– Да это слуга Курбского; надо дьяку заявить.
– Не ошибся ли ты?
– Уж я тебе говорю, это Шибанов; смотри, не упускай; худо будет, велено слуг Курбского ловить; я тебе говорю, что узнал его, хоть он и отрастил себе волосы.
– Что же нам делать? – спросил Гур.
– Да крикнуть нашим молодцам, чтоб схватили его.
– Дело, а то узнают, что купил здесь коня, так и нам несдобровать.
– Держи, держи! – закричал Варлам, и встревоженный народ хлынул толпой к ним.
– Кого, за что? – спрашивали Гура и Варлама.
– Слугу Курбского, – сказал Варлам, указывая на Шибанова. – Схватите его, ведите его к недельщику.
– Что вы, православные? – сказал Шибанов. – Вы видите, что я не бегу, а к недельщику и сам пойду; я человек проезжий, боярский слуга, и еду не к Курбскому, а в Москву.
– Что его слушать, ведите его к дьяку! – закричал Варлам, и Шибанова окружили и повели в дом недельщика.
Недельщик стал расспрашивать, и Шибанов сказал ему, что едет из Новгорода в Москву с грамотою к царю, а кто послал его, о том царь знает.
– Держите его до утра, – сказал недельщик, – и представьте завтра в суд к дьяку.
На другой день утром Шибанов стоял в приказной избе. На скамье, за дубовым столом, под иконою, сидел дьяк и возле него недельщик; пред ними стояли горожане, пришедшие в суд по делам.
Дьяк велел принять от одного половину бирки и приискать другую в ящике. Биркой называлась палочка в палец толщиною с зарубленными на ней метками; расколов ее вдоль, оставляли одну половину у приемщика, а другую – у отдатчика. Оказалось, что на палочке Рахманьки Сурвоцкого, когда приложили другую половинку бирки, намечены были крест, три косые черты и две прямые. Это означало, что принято от него в суд одно сто, три десятка и две пары беличьих шкур вместо денег, а Рахманько приговорен был к заплате в казну по суду.
После него подошел боярский сын Щетина, человек угрюмого вида, и высыпал из мешка деньги.
– Что это? – спросил дьяк, нахмурясь.
– Грех надо мной, – отвечал Щетина, – зашиб своего холопа, а тот и не встал. Вот, – продолжал он, высыпав из мешка деньги, – пеня за убитого.
– Еще, – сказал недельщик, – с него же велено взыскать купцу Дуброве тридцать белок.
– Принимай, – сказал Щетина, взяв от слуги узел с беличьими шкурками и подавая недельщику. – Теперь я отплатился; не дадите на меня бессудную грамоту.
– Хорошо, – сказал дьяк, – перед судом ты оправдан, да перед Богом-то виноват.
Щетина махнул рукою и вышел.
За ним позвали Шибанова. На все вопросы он отвечал только, что везет грамоту к царю и никому не может отдать ее, как в государевы руки.
Его не смели задерживать, но дьяк счел за нужное отправить с ним двух стрельцов для надзора до самой Москвы.
Уже пробило пятнадцать часов дня на Фроловской башне, когда Шибанов приблизился к Москве. Между пространными садами и огородами шумели мельницы ветряными крыльями, далее дымились кузницы, а там белели московские стены, и тысячи церквей пестрели разноцветными главами и блистали святыми крестами.
– Привел Бог увидеть! – сказал Шибанов, перекрестясь на златоглавые соборы, и прослезился.
Скоро стемнело; закинули рогатки по улицам; стража останавливала идущих, считая шестнадцатый час от восхождения солнца.
Недолго стучались стрельцы в тесовые ворота большого дома думного дьяка, Василья Щелкалова. Хозяин велел впустить их. Неутомимый в трудах, он и еще один из московских сановников сидели за свитками, читая грамоты и скрепляя повеления Боярской думы.
Стрельцы подали ему донесение торжковского дьяка, и Щелкалов с удивлением посмотрел на Шибанова, покачал головой и сказал ему:
– Зачем пришел ты в Москву? Знаешь ли, что ждет тебя здесь? В Москве нет дома Курбских, не признаешь и места, где был он; а ты осмелился идти с грамотой беглеца к государю?
– Он господин мой, – отвечал Шибанов, – и велел мне вручить государю свое писание; я повинуюсь, как Бог велел; хочу быть верным рабом.
– Раба неверного, – перебил его Щелкалов. – Боярин твой бежал к врагам Русской земли, а ты пришел от него в Святую Русь!
– Не мне судить его, а Богу, – отвечал Шибанов. – Если бы я отступился от него в бедствии, Бог бы от меня отступился.
– Дело кончено, – сказал Щелкалов, – с чем пришел, то и подай, примет ли царь от тебя грамоту или нет – не мое дело; завтра, пред государевым выходом в собор, будь у Красного крыльца. Я доложу о тебе государю.
– Дозволь мне, боярин, повидаться со стариком, отцом моим.
– Не худо, – сказал Щелкалов, – да и простись с ним! Ступай. – С этими словами он отпустил Шибанова.
На другой день, едва рассвело, Шибанов встал и, открыв ставни, заграждавшие окна, славословил Бога псалмами; потом поклонился в ноги спящему отцу своему и поцеловал его. Слепой старец проснулся.
– Ты уже встал, Василий? – спросил старик. – Мало отдохнул ты с дороги!
– Благослови меня, батюшка, снова на путь, – сказал Шибанов.
– Куда же? – спросил старик. – И петухи еще не пели.
– Нет, светло, батюшка; иду поклониться Успенскому собору.
– Еще не скоро заблаговестят, – сказал отец. – Скоро ль воротишься ты?
– Хлопот много, – сказал Шибанов, – но Бог приведет, скоро будем вместе.
– Управи Господи путь твой, родной мой, – сказал старик, – не могу я на тебя наглядеться!
Выйдя из ворот, Шибанов пошел по улице. Он услышал, что кто-то назвал его по имени, оглянулся и увидел на скамье ремесленника, работающего под навесом, на котором висела на крючках разноцветная сафьянная обувь. Шибанов узнал своего знакомого Илью и сказал:
– Бог в помощь!
– Спасибо, – отвечал Илья. – Не знал я, что ты в Москве, забреди хлеба-соли отведать: для старого приятеля найдется и каравай, и меду ковш. Добро пожаловать!
– Не время, – сказал Шибанов, – прости, до свидания.
С горестию видел добрый слуга пустое место, обнесенное забором; между разметанными бревнами прорастала трава; здесь стоял прежде дом князя Курбского, а теперь ничего не видно было, кроме разрушения. Скоро Шибанов дошел до кремлевской стены и поворотил на Красную площадь. Сердце звало его к молитве, и он вошел в Успенский собор.
Чрез некоторое время, держа в руке грамоту, Шибанов встал перед Красным крыльцом; народ уже показывался на площади.
День был воскресный. Приближался час государева выхода. Скоро заметили Шибанова черкесские стражи и хотели отогнать от крыльца. На шум подошел боярин Алексей Басманов.
– Отойди, старик, от крыльца, – закричал он, – царь скоро выйдет.
– Великий боярин, я должен подать государю грамоту, – отвечал Шибанов.
– Бойся утруждать царя, подай в приказ.
– Мне велено подать в царские руки его.
– О чем писано в грамоте?
– Богу знаемо.
– От кого эта грамота?
– Государю ведомо.
Боярин гневно посмотрел на Шибанова, но оставил его в покое.
Между тем раздался уже благовест; стольники и стряпчие показались на Красном крыльце. Один из них нес басмановский дар – жезл с острым наконечником, другой – государеву Псалтырь рукописную; в народе послышался почтительный шепот: «Царь шествует!» И скоро показался на Красном крыльце Иоанн, сопровождаемый своими любимцами, рындами и черкесами. Думный дьяк уже известил его о челобитчике. Иоанн искал глазами Шибанова, который, приблизясь, поклонился ему до земли.
– С чем ты? – спросил его царь.
– С грамотою господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича Курбского, – отвечал Шибанов.
Окружающие царя изумились. Иоанн с гневным видом вырвал жезл из рук стольника и, ударив острым наконечником в ногу Шибанова, пригвоздил ее к земле. Дав знак взять от него грамоту, он повелел Щелкалову читать ее, а сам, опершись на жезл, слушал в грозном молчании.
– Вот как беглец и изменник наш дерзает писать к нам, своему законному государю! – воскликнул царь после того, как прочитали грамоту Курбского.
Лицо Иоанна почернело от гнева, и глаза его помутились свирепством.
– Скажи, – кричал он Шибанову, – кто соумышленники моего изменника, твоего господина, и где скрыл он свою жену и сына?
– Ничего не могу сказать об этом тебе, государь, но что повелено мне, то я исполнил.
– Отвечай или умрешь с муками, – сказал Иоанн.
– Твоя надо мною царская воля явить гнев или милосердие, – отвечал неустрашимый Шибанов; между тем кровь текла струею из ноги его.
– Исторгните у него признание! – воскликнул Иоанн, отдернув жезл.
Шибанова повели в застенок, куда принесли орудия пытки. Василий перекрестился и с твердостию праведника отдался во власть мучителей. Тело его терзали, но душа его, обращенная к Богу, скрепилась силой веры. Под ударами он благословлял имя Божие. Не исторгли никаких жалоб из уст, не слышали никакого ропота. Тщетно думали узнать от него тайные намерения и связи Курбского.
– Господь знает сердце его, – отвечал Шибанов.
– Кляни изменника, своего господина, – кричали ему.
– Помилуй Боже моего отца боярина, – говорил страдалец. – Помяни в изгнании моего благодетеля!
Тщетно силою угроз и мучений принуждали верного слугу объявить убежище княгини Курбской и сына ее. Шибанов упал, обагренный кровью, но молчал и молился. Не ослабевали удары, не ослабевала и молитва его; простертый на земле, он уже чувствовал приближение смерти.
– Прими, Господи, душу мою! – сказал он, силясь еще раз возложить на себя крестное знамение. – Помилуй рабов твоих, князя Андрея и царя Иоанна, – тихо промолвил он и упал в руки мучителей.
Глава VII. Брак из честолюбия
С беспокойством ждал Курбский вести о семействе своем. Между тем польский король, из вражды к Иоанну, почтил русского вождя самым благосклонным приемом в Вильне. Курбский вдруг увидел себя на блистательной среде, и чем более ласковый король, пламенный чтитель геройства и страстный любитель просвещения, беседовал с князем и узнавал его, тем очевиднее было благоволение его к Курбскому; многие из польских магнатов не завидовали, а радовались возвышению славного пришельца, в котором ожидали видеть защитника Польши.
Но далеко было утешение от сердца Курбского. От Головина не было слуха о прибытии княгини в Нарву, а пришла ужасная весть, что она укрывалась в Тонненберговом замке и погибла с сыном во время наводнения, убегая от преследования грабителей. Обманутый мнимым известием, несчастный отец семейства уверился в бедственной потере, узнав, что сам Тонненберг не избег гибели. По рассказам других, княгиня исчезла с сыном в лесу, где найден убитым сопровождавший ее русский слуга. Письмо от окольничего Головина из Нарвы довершило горесть Курбского. Он знал, что о Гликерии и Юрии не было слуха в Нарве, и в то время, когда княгиня после потери сына страдала в эстонской хижине, Курбский не сомневался, что у него уже нет семейства, что он один на земле.
Король, желая развлечь уныние князя, приглашал его в Варшаву, куда сам отправлялся на несколько недель. Курбский не мог отказать королю и, отягченный ударами судьбы, хотел бы забыться.
Шумны и блистательны были варшавские праздники, особенно в доме Радзивилла. Польские красавицы там искали побед; Курбский был предметом общего внимания, удивления и разговоров. Это замечала сестра Радзивилла, княгиня Елена Дубровицкая, вдова еще в цвете лет, пылкая, мечтательная, славолюбивая. В чертах ее красота соединялась с гордостью; высокий рост придавал ей особенную величавость, глаза ее блистали огнем души, белизна высокого чела оттенялась темно-коричневыми волосами, в алых устах выражалась гордая самоуверенность, но в лице ее не было приятности; она была подобна тем изображениям, которые, нравясь правильностью рисунка и живостью кисти, не оставляют впечатления на сердце.
Сам король представил Курбского княгине Дубровицкой. Ей были известны подвиги героя по рассказам польских вождей и русских пленников. Она нашла, что Курбский не был так страшен, как представлялся в ее воображении; важный, мужественный, выразительный вид его нравился ей более, нежели ловкость и уклончивость польских магнатов, окружавших короля. Княгиня приветствовала Курбского, не скрывая своего удивления к его доблестям и участия в горестной судьбе его. Курбский отвечал ей с прямодушием воина и незаметно увлекся беседой; Сигизмунд с торжествующим видом дал заметить княгине произведенное ею впечатление.
Курбский понимал намерения короля сблизить его с Польшей, но утрата семейства удаляла от него всякую мысль об утешении; впрочем, сам король с свойственною ему любезностью взял на себя заботу успокоить его.
Курбский видел, что сама судьба расторгла навек прежний союз его; чувствовал, что мысль о невозвратимой потере будет только изнурять его силы. Быв почти одиноким в шумной Варшаве, он не отклонялся от дружбы Радзивилла и привык беседовать с княгиней Дубровицкой. Испытав ненадежность счастья, князь мог видеть, что ему легко утвердиться при дворе Сигизмунда Августа союзом с знаменитым родом и показать Иоанну, что в Польше не считают Курбского беглецом. Слепо предавшись будущему, он успел на время заглушить в памяти минувшие бедствия; ему казалось, что он начал жить новой жизнью, так все вокруг него и сам он в себе изменился.
В красивой зале, обитой зеленым штофом, сидела, облокотясь на мраморный столик, поддерживаемый четырьмя позолоченными грифами, княгиня Елена Дубровицкая. Пред нею, в богатой фарфоровой вазе, благоухали прелестнейшие цветы лета, роскошный дар природы, взлелеянной искусством. Возле княгини на стуле, обитом зеленым бархатом, сидел с лютнею Иосиф Воллович, двоюродный брат княгини. Голубой венгерский полукафтан, украшенный золотыми шнурами и кистями, стягивал стройный стан его; из-под шелкового кушака блестела серебряная рукоять сабли; края одежды его опушены были собольим мехом; волосы, остриженные в кружок, закрывали до половины его большой лоб; нежная томность выражалась в его больших, голубых, открытых глазах, и в милой улыбке видно было что-то лукавое, что, однако ж, нравилось женщинам. Цветя юностью и красотой, он еще казался робким и застенчивым, тем не менее он был опасен для молодых красавиц, не принимавших предосторожности в разговоре с Иосифом. Удовольствие слушать его было так заманчиво, что они не замечали, как заронялась в их душу искра пламенной страсти, особенно когда он, высказывая откровенно свои мысли и чувства, поднимал к небу свои голубые глаза или когда легкая рука его резво перебегала по струнам лютни, а сладостные звуки вырывались из уст, и улыбка образовала на розовых щеках его ямку, как будто под пальцем Эрота. Тогда польские красавицы не могли равнодушно смотреть на Иосифа, и женская гордость смирялась пред могуществом красоты и любезности. Иосиф, казалось, сам не знал или не хотел примечать, сколь он нравился, но ни от кого так не были приятны приветствия польским красавицам двора Сигизмунда Августа, как от Иосифа. Княгиня Елена Дубровицкая часто называла его молодым пажом своим, обращаясь с ним как с милым двоюродным братцем; скоро присутствие его сделалось для нее необходимо.
Не сводя глаз с княгини и по временам опуская застенчиво темные ресницы, Иосиф пел романс, который Елена слушала с восхищением. К удивлению ее, последние слова романса были обращены к ней:

