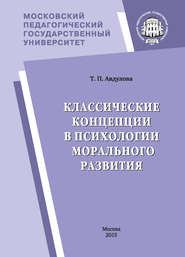 Полная версия
Полная версияКлассические концепции в психологии морального развития
Оригинальные взгляды на характер морального развития высказывает Гиллиган в своей «социальной теории». Моральные ориентации субъекта, по ее мнению, определяются общими социальными установками личности. В основе различных моральных ориентаций лежат два типа установок личности – ориентация на соблюдение прав всех людей и ориентация на результат морального события, благополучный исход. Моральные проблемы анализируются в рамках моральной ориентации, которая организует их решение. Гиллиган опирается в своей теории на следующие положения:
существование устойчивых типов моральной ориентации; соотнесенность типов моральной ориентации с полом (гендерные различия);
соотнесенность типов моральной ориентации с моральными стадиями Кольберга;
связь между объяснениями гипотетических и реальных дилемм.
К. Гиллиган определяет основные типы моральной ориентации как нормативный тип (ориентация на норму, правило) и эмпатийный тип (ориентация на реальное благополучие конкретных людей). Типы моральной ориентации в значительной степени связаны с гендерными различиями. Так, первый тип ориентации – установка на соблюдение принципа справедливости – в большей степени характерен для мужчин, реализующих мораль ответственности, нормативности, справедливости и возмездия. Второй тип – установка на конкретных других – присущ женщинам, реализующим мораль прощения, поддержки, заботы.
Девочки, взрослея, как показала Гиллиган, демонстрируют большую социализированность и обращают повышенное внимание, по сравнению с мальчиками, на вопросы воспитанности. Это ведет к тому, что девочки чаще используют справедливость как функцию достижения других целей, тогда как для мальчиков справедливость становится самоцелью.
Принципиальная новизна теории Гиллиган заключается в том, что в основу представления о сущности развития морального сознания ставится не представление об ориентации на намерения (нормативный подход Кольберга и Пиаже), а в равной степени ориентация на результат события. Внимания также заслуживает оригинальный метод, предложенный Гиллиган: испытуемые сами формулировали моральные дилеммы из собственной жизни и анализировали их. Существование различных типов моральной ориентации, их соотнесенность с полом были частью подтверждены, а частью опровергнуты в последующих исследованиях.
Нэнси Айзенберг также высказывает ряд критических замечаний в адрес модели Л. Кольберга. Исследовательница утверждает, что значение абстрактной справедливости не столь велико, как это подчеркивал Кольберг. Моральное развитие, помимо когнитивных оснований, формируется под влиянием многих факторов: культурных традиций, социальных условий, эмоциональных переживаний. Моральное развитие не укладывается в жесткие рамки отдельных стадий, и уровень моральных суждений может колебаться в зависимости от конкретной ситуации. Гетерогенность моральных суждений проявляется в значительных различиях между моральными суждениями относительно гипотетической ситуации и реального происшествия. Ребенок может занимать различную позицию по конкретной ситуации, и эта позиция может соотноситься с любой из стадий на всем диапазоне достижений ребенка в моральном мышлении.
Н. Айзенберг поддерживает позицию К. Гиллиган в отношении дифференциации морального развития мальчиков и девочек. Но причину этих различий она усматривает не в гендерных особенностях как таковых, а в различных темпах созревания. Девочки созревают быстрее и поэтому раньше начинают давать ответы, проникнутые заботой и состраданием, чем мальчики их возраста (Eisenberg N., Miler P., 1987).
Важно отметить, что Айзенберг считает способность к элементарной форме сочувствия врожденной. Эта способность проявляется уже в плаче новорожденных, который начинается в ответ на плач других детей и формально носит характер эмоционального заражения, но по сути может являться основой сопереживания. Формирование эмпатии начинается со способности опознавать специфические состояния другого человека, в первую очередь эмоциональные состояния. Именно такого рода способность мы обнаруживаем в поведении заражения плачем новорожденных.
По-видимому, вслед за Айзенберг, можно ставить вопрос о возникновении зачатков эмпатии в раннем детстве на основе совпадения эмоций у субъекта и наблюдателя. По мере развития ребенка ранние формы сочувствия трансформируются в сложные моральные чувства, подкрепленные представлениями о себе и о других. Как подчеркивали Хофман и Кольберг, первичная хаотичная форма эмоциональной активности обеспечивает в дальнейшем основу для развития способности встать на позицию другого, то есть становится фундаментом альтруистического поведения.
В рамках когнитивного подхода к моральному развитию следует также указать на работы английского социолога У. Кэй, выделившего на основе лонгитюдных исследований следующие стадии морального развития: 1) уровень табу; 2) легальный или законный уровень; 3) взаимный, ответный, эквивалентный уровень и 4) социальная мораль.
У. Кэй выделяет предпосылки морали, начальные нравственные черты, а также некоторые начальные нравственные отношения. К таковым он относит развитие «знающей совести», альтруизм, ответственность, чувство личности.
Американский исследователь Н. Булл также провел широкомасштабное исследование с испытуемыми в возрасте от 7 до 17 лет с целью изучения динамики развития и совершенствования моральных суждений в сферах, имеющих непосредственное отношение к морали (вопросы ценности жизни, допустимости мошенничества, воровства и т. д.). В результате исследования Н. Буллом было выделено 4 обобщенных уровня морального поведения: 1) доморальный уровень; 2) уровень внешней морали; 3) уровень внешней и отчасти внутренней морали; 4) уровень полностью внутренней морали. Позитивным моментом концепции Булла является представление о моральном развитии индивида как постепенном переходе от внешних воспитывающих моментов к внутренним, к нравственной автономии.
Исследования Д. Кребса, К. Вермюлена, Дж. Карпендейла и других ученых, основанные на структуре построения исследования и руководстве по анализу и интерпретации данных, предложенных Л. Кольбергом, позволяют также говорить о неоднородности моральных суждений (Krebs D., VermulenC., Carpendale J., 1997). Эти исследования демонстрируют, что люди, находящиеся на относительно высоких стадиях морального развития, могут проявлять при этом высокий уровень агрессивности, демонстрировать силу и игнорировать жертвы в критическом положении.
Значительную проблему составляет то, что другие исследователи, рассматривавшие продольные данные Кольберга, нашли большее количество несогласованности стадий, внутренних противоречий, чем утверждает сам Кольберг. Данные исследований говорят также, что моральные суждения могут перемещаться от одной стадии к другой, могут быть интерпретированы посредством разных структур стадий (Krebs D., Vermulen С., Carpendale J., 1997).
Все больше подтверждений получает идея о том, что ситуации отличаются по силе их влияния на специфические структуры морального сознания. С этой точки зрения «сильные» ситуации могут быть определены как те, которые равномерно воздействуют на одну интерпретирующую структуру, содержат моральный конфликт, затрагивающий только одну из жизненных функций или не содержащий в себе несколько противоречивых требований. В такого рода ситуациях индивид легко ориентируется в моральной дилемме и может уверенно опираться на текущую стадию моральных суждений. «Слабые» ситуации опираются на несколько моральных структур, в них сложнее принимать решение и зачастую происходит «откат» к предшествующим стадиям моральных суждений, так как субъект сталкивается с неоднозначным выбором.
Факторы, которые способствуют силе или влиянию ситуаций на характер моральных суждений, включают в себя: содержание морального конфликта, нормативную структуру и ролевые ожидания. Таким образом, «слабая» ситуация может содержать в себе несколько моральных конфликтов и при этом противоречащие моральным требованиям ролевые ожидания, скажем, гендерного характера. Это приводит к снижению категоричности каждого из моральных требований и выбору одного из них, при этом ориентация на самый высокий из возможных для конкретного индивида уровень моральных суждений уже затруднена.
Обобщая данные последних исследований в рамках кольбергианской традиции, можно сделать вывод о том, что личности сохраняют старые структуры моральных суждений, характерные для более низких стадий. Эти структуры используются в некоторых ситуациях, то есть люди не всегда поступают на уровне их компетентности. Моральная деятельность определена взаимодействием между стадией-структурой, доступной субъекту, факторами индивидуальности, структурным влиянием и устойчивостью моральных дилемм и моральных ситуаций, с которыми сталкивается субъект.
Т. Врен, обобщая опыт философских и психологических исследований в области нравственности, предложил трехмерную модель, каждая ось которой отражает одно из направлений изучения морали (Т. Wren, 1987). Первая ось сосредоточена на интрапсихических процессах. Это направление изучает когнитивные процессы, личностное развитие и другие аспекты субъективности. Вторая ось сосредоточена на межличностных процессах. Это направление изучает детско-родительские отношения, вербальное общение и другие процессы коммуникативного взаимодействия. Третья ось сосредоточена на культурологических процессах. В рамках этого направления изучаются религиозные, этнические, социально-исторические детерминанты морали. Каждая из осей отражает различные предположения о возникновении морали. Т. Врен, придерживающийся объективистского подхода, считает, что суть моральных явлений раскрывается не сама по себе, а по мере анализа различных фактов человеческой жизни. Эта точка зрения одна из наиболее распространенных в современной западной психологии.
В русле когнитивного подхода также подчеркивается регуляторная роль чувства вины в моральном развитии, однако генезис вины и механизм ее воздействия на поведение личности кардинально отличаются от психодинамического подхода. Если в психоанализе фиксируется негативный характер переживания вины и ее разрушающее воздействие на личность, то в когнитивном подходе подчеркивается созидательное влияние чувства вины на личность: стремление исправить ситуацию, восстановить ущерб или предоставить поддержку пострадавшей стороне.
Когнитивисты подчеркивают адаптивный характер чувства вины и прогностические возможности, которые открывает развитое чувство вины в дальнейшей социализации ребенка. Трехлетние дети, демонстрирующие интенсивное переживание чувства вины в различных ситуациях, к пятилетнему возрасту оказываются более социализированными, лучше соблюдают правила и не склонны к асоциальному поведению.
Социоэмоциональную теорию формирования чувства вины развивает в рамках когнитивного подхода М. Хофман. Чувство вины – рефлексивное переживание самоотношения, которое Хофман определяет как сильное, негативное переживание потери самоуважения, которое возникает вследствие эмпатийного сопереживания другому человеку, оказавшемуся в стрессовой ситуации по вине сопереживающего (Hoffman, 1980).
Чувство вины возникает в межличностных отношениях и мотивирует просоциальное поведение, зарождаясь к концу первого года жизни и приобретая свою развернутую форму к 10–12 годам. Возникновение чувства вины в детстве преимущественно связано с близкими отношениями, в которых один из субъектов общения наносит ущерб другому. Взрослея, ребенок все чаще связывает чувство вины с моральным ущербом другому. Кроме того, негативное переживание, первоначально возникающее post factum, затем становится антиципирующим и влияет на моральный выбор субъекта через эмоциональный прогноз последствий выбора.
Моральное развитие, согласно Хофману, требует активной включенности ребенка в совершаемые действия как на когнитивном, так и на эмоциональном уровне. Только в результате осознания своих чувств и сознательной когнитивной оценки ситуаций межличностного взаимодействия переживание дистресса ребенком раннего возраста трансформируется в чувство вины дошкольника. Активность обеспечивает усвоение моделей морального поведения и, в свою очередь, трансформирует чувство вины в чувство ответственности за моральный выбор.
Хофман выделяет пять типов моральных ситуаций, в которых возникает и развивается чувство вины у ребенка (Hoffman, 1998).
1. Невинный наблюдатель. Это ситуации, когда субъект становится свидетелем стресса или страдания другого. Моральный выбор связан с необходимостью помочь другому, а чувство вины возникает в результате бездействия субъекта. Чувство вины мотивирует оказание помощи.
2. Нарушитель. Это ситуации, когда субъект непосредственно наносит вред другому или ущерб возникает в результате действий субъекта. Моральный выбор данного типа ситуаций состоит в готовности отказаться от вредоносного действия или постараться его избежать. Чувство вины, согласно Хофману, возникает под влиянием взрослого, задача которого расставить акценты в поведении ребенка и дать оценку этому поведению с позиции другого. Сам ребенок может не осознавать тот ущерб, который он наносит другому человеку. Взрослый размечает ситуацию с позиции моральных норм и социальных правил, что актуализирует новые чувства самоотношения у ребенка, формирует другую систему самооценивания, в которую включены нравственные категории. Приобретая опыт отношений в подобных ситуациях, ребенок учится прогнозировать чувство вины и моделировать свои действия в умственном плане, антиципируя последствия.
3. Виртуальный нарушитель. Это ситуации, где субъект еще не успел нанести ущерба другому, но уже чувствует себя нарушителем. Моральный выбор подобных ситуаций состоит в потенциальной допустимости нарушения в отношении близкого человека. Чувство вины возникает как реакция на чувства близкого человека и разделение ответственности за эти чувства.
4. Модель множественного выбора. Эта модель представляет собой расширенную позицию невинного наблюдателя, который является свидетелем негативных переживаний, страданий нескольких людей, но не может оказать помощь всем сразу. Проблема выбора в том, кому помогать. Дилеммой, которая очень наглядно иллюстрирует подобный выбор, является так называемая дилемма «Свидетель Дениз». Дениз – пассажирка, находится в трамвайном вагоне, потерявшем управление. Водитель без сознания, и вагон движется по направлению к группе из пяти человек, идущих по рельсам; насыпь по обеим сторонам такая крутая, что люди не могут вовремя сойти с путей. Главная ветка имеет ответвление вправо, и Дениз может отправить вагон туда. Однако там находится один человек. Дениз может свернуть на боковой путь, и погибнет один человек; или она может не переводить стрелку, и тогда погибнут пять человек. Как должна поступить Дениз?
Моральный выбор различных ситуаций состоит в том, чтобы определить, кому помогать, в отношении кого из субъектов самых разных жизненных ситуаций действовать морально. С точки зрения теории эволюции необходимо помогать тем, с кем тебя связывает генетическое родство. Однако в случае множественного выбора субъект начинает испытывать эмпатию в отношении разных людей и сопереживает многим участникам ситуации. Критериями для единения с другими людьми могут быть профессиональное единство, или ценностное единство, или общее сочувствие ближнему. Критерии выбора неопределенны и ставят человека перед внутренним конфликтом, который трудно разрешим как с когнитивной позиции, так и с эмоциональной.
Обзор исследований когнитивного направления показывает, что в основе большинства концепций лежит этический абсолютизм. Так, и концепция Ж. Пиаже, и концепция Л. Кольберга предполагают достижение высшей стадии морального развития, и эта стадия должна основываться на высоком уровне моральных суждений. Вместе с тем когнитивные теории морального развития уделяют недостаточное внимание влиянию культурологических факторов, тогда как отдельные культуры имеют ярко выраженную ориентацию на групповые или личные ценности, коллективистическую или индивидуалистическую направленность. В зависимости от этих особенностей моральное развитие в этих культурах будет происходить не одинаково. Имеют значение и другие культурологические факторы.
В когнитивных теориях не были получены однозначные доказательства гомогенности морального сознания. Л. Кольберг и Ж. Пиаже отчасти указывали на гетерогенность морального сознания, но специально не разрабатывали эти теоретические позиции и не придали им достаточного значения. Положение о гетерогенности морального сознания получило свое отражение в современных исследованиях когнитивного направления.
Расхождение между моральным сознанием и моральным поведением, хотя и было отмечено и Ж. Пиаже и Л. Кольбергом, однако причины этого расхождения и характер связи не были определены. Также не учитывается эмоциональный аспект развития в концепциях Ж. Пиаже и Л. Кольберга. В исследованиях их последователей эмоционально-мотивационные компоненты морального развития находят свое отражение.
Следует отметить и методические трудности следования модели Кольберга. Руководство по анализу и интерпретации данных по моральным дилеммам оказывается достаточно сложным в реализации в практической работе и оставляет пространство для разночтений.
Вместе с тем в когнитивном подходе была установлена и доказана связь между когнитивным и моральным развитием. Пиаже и Кольбергом было показано существование определенных инвариантных, устойчивых форм морального сознания. Исследователи выделили уровни и этапы морального развития, которые позволяют на более четкой научной основе строить процесс нравственного воспитания. Экспериментальными исследованиями была охвачена большая выборка испытуемых, получено много экспериментальных данных, которые по-прежнему оставляют простор для теоретических изысканий. Результаты экспериментальных исследований Пиаже и Кольбега были подтверждены данными их последователей. На основании полученных данных были разработаны принципы и методы, стимулирующие моральное развитие; программы по моральному развитию для школьников, студентов, заключенных.
Биологический и отологический подходы к морали
Вступлением к анализу биологического подхода к нравственности должны стать слова Ч. Дарвина о различиях между мирами животных и людей: «Из всех различий между человеком и низшими животными наиболее важным, несомненно, является нравственное чувство, или совесть…» Биологические и этологические теории морали возникли в связи с открытием генетиками в 70-х годах XX века механизмов группового или родственного наследования, которые позволили дать кардинально иную интерпретацию тем видам поведения, которые традиционно представлялись как не биологические (жертвенность, альтруизм, забота в ущерб себе). Парадоксальные для дарвиновского учения механизмы функционирования биологических сообществ оказались во многом предопределены и биологически предзаданы.
В основе этологического подхода к моральному развитию лежит идея о наличии врожденных, биологически запрограммированных универсальных моральных структур, которые обеспечивают дальнейшее социокультурное становление нравственности и обеспечивают развитие элементарных моральных ориентаций. Этологический подход к моральному развитию – это позиция генетической детерминированности морали, ее интуитивности и независимости от мышления. Это позиция отказа от стадиальности морального развития, позиция непринятия традиционных факторов воспитания, рассуждений и смыслового анализа как основополагающих в моральном развитии. Традиционному системогенезу нравственности этологические и биологические подходы противопоставляют органогенез и биологическую предзаданность.
Существование моральных инстинктов или общих универсальных принципов «моральной грамматики» по аналогии с врожденными речевыми способностями человека утверждают такие известный психологи, как Дэвид Юм, Ноам Хомский, Конрад Лоренц, Марк Хаузер, Джон Ролз, Ричард Доукинз и другие. Моральное развитие личности строится на основе подсознательно порождаемых и интуитивно чувствуемых правил, которые с самого рождения обрастают социокультурными дополнениями и вариациями. Изначально данный каждому ребенку при рождении моральный инстинкт обеспечивает возможность быстрой оценки ситуации в системе осей должного, возможного и запретного.
Уже в середине XX века Конрад Лоренц рискнул заговорить о морали в мире животных и тех моделях поведения, которые нельзя свести исключительно к биологической утилитарности. Это модели поведения животных, включающие избирательность построения отношений, эмоциональную синхронизацию и вариативную саморегуляцию.
С другой стороны, в поведении высших животных, по всей видимости, благодаря естественному отбору сформировались врожденные запреты на выполнение некоторых биологических программ, например блокирование агрессии в отношении представителей своего вида. Несмотря на внутривидовую конкуренцию, большинство животных демонстрируют скорее символическую агрессию, нежели реальную готовность к уничтожению противника своего вида. Наличие подобных запретов побуждает некоторых этологов рассуждать о биологической изначальности моральных запретов, например, «запрет на убийство» как следствие ранней биологической дифференциации видов на «своих» и «чужих». Ритуализованные формы внутривидовой агрессии направлены на соблюдение правил, а не на уничтожение противника: изгнать, но не убить (Лоренц К., 1994; Дольник В.Р., 2003).
Не претендуя на исчерпывающее объяснение генезиса нравственности, этологи проводят параллели между поведением животных, которое похоже на моральное, и собственно моральным поведением людей: «…по крайней мере часть наших так называемых общечеловеческих норм морали и этики генетически восходит к врожденным запретам, руководившим поведением наших предков…» (Дольник В.Р, 2003).
Биологический подход последовательно реализует в своих работах Ричард Доукинз, возлагающий на генетический аппарат человека ответственность за развитие альтруизма. Альтруизм становится механизмом кин-отбора (от англ, kin selection – родственный отбор), то есть сохранения признаков, ответственных за выживание близких родственников, в отличие от индивидуального или группового естественного отбора (Докинз Р., 2013).
Дж. Хайдт утверждает, что наши интуитивные представления о том, что допустимо, а что нет, руководствуются четырьмя моральными эмоциями в системе отношений:
1. Другой – осуждаемый. Типичные эмоции: презрение, гнев и отвращение.
2. Осознающий себя. Типичные эмоции: стыд, смущение, вина.
3. Другой – страдающий. Доминирующая эмоция: сопереживание.
4. Другой – восхваляемый. Типичные эмоции: благодарность, восхищение (Haidt J., 2003).
Однако в вопросе о первичности эмоциональных или когнитивных реакций на ситуацию рассогласования моральных требований представители биологической точки зрения расходятся. Марк Хаузер считает, что первична когнитивная непроизвольная реакция, которая осуществляет моральную оценку и включает эмоциональную реакцию в зависимости от оценки. Типичные проявления эмоционального дистресса, определяемые как чувство вины, возникают в ответ на осознание, что действие человека причинило некоторый вред другому индивиду.
Общественный образ жизни является тем изначальным требованием эволюционного развития, которое определяет необходимость врожденных регуляторов поведения в социальной среде. «Предназначение человека – жить в обществе. Его нравственный закон поэтому должен быть сформулирован для этой цели. Именно в связи с этим ему дано ощущение добра и зла. Это ощущение – в значительной степени часть его природы, как слух, зрение, другие чувства; это – истинная основа морали… Моральное чувство, или совесть, является такой же частью человека, как его нога или рука» (Хаузер М., 2008).
Позиция М. Хаузера воплощает максимальную проработанность биологических оснований морального развития, обобщенных в следующих принципах (Хаузер М., 2008):
1. В основе морали человека лежат универсальные, видоспецифические принципы, которые направляют моральные суждения. Поведение человека не детерминируется строго этими принципами, они лишь задают общие ориентиры.
2. Каждый из принципов позволяет автоматически, в режиме экономии времени и психических ресурсов оценить ситуацию в пространстве нравственно запрещенного, обязательного или допустимого.
3. Универсальные принципы не осознаются.
4. Принципы функционируют с опорой на переживания, в том числе визуальные образы, все формы речи, сенсорные впечатления.
5. Универсальные принципы являются врожденными.
6. Развитие врожденных моральных принципов происходит естественным образом без внешнего воздействия, но, развиваясь, устанавливают ряд ограничений на формирование конкретно культурных моральных систем.



