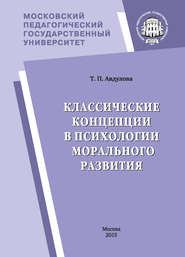 Полная версия
Полная версияКлассические концепции в психологии морального развития
Анна Фрейд, разрабатывая положения детского психоанализа, на первое место в развитии ребенка выдвигала не смену объектов удовлетворения влечения, а реальную, окружающую индивида ситуацию, характер интерперсональных взаимоотношений, прежде всего отношений с близкими взрослыми. А. Фрейд указывает на то, что ребенок имеет двойную мораль: одну, предназначенную для мира взрослых, и другую для себя и своих сверстников. В детстве ребенок, по мнению А. Фрейд, морально зависим, его поведение определяется инстинктивными желаниями, а допустимость или запрет на их удовлетворение – миром взрослых (Фрейд А., 2003).
Моральная независимость достижима в зрелости, после прохождения многочисленных внутренних столкновений, когда достигается способность контролировать свои намерения и решать вопрос об отклонении или реализации намерений и влечений. Формирование структуры суперэго способствует возникновению защитного механизма проекции, на основе которого, в свою очередь, развиваются привязанности, а альтруистическое поведение приходит на смену эгоистическому.
Мелани Кляйн высказывала гипотезу о моральном развитии через возникновение чувства вины уже в раннем возрасте, на втором году жизни. Сохраняя верность фрейдовской идее о чувстве вины как результате конфликта между ид и суперэго, М. Кляйн ввела понятие «архаического суперэго», символизирующего формирование ранних сильных запретов в структуре личности ребенка (Кляйн М., 2001).
Развитие отношения к миру, согласно А. Фрейду и М. Кляйн, происходит через формирование «эго-состояний» – специфических связей между личностью и определенными ситуациями. Каждое конкретное «эго-состояние» содержит информацию о правилах поведения, нормах и сценариях для типичных ситуаций, навязывая субъекту определенное поведение. Преодоление ригидных сценариев должно осуществляться через их осознание и построение новых конструктивных схем.
Ортодоксальный психоаналитик Жак Лакан, создатель структурного психоанализа, рассматривал развитие личности ребенка как процесс идентификации субъекта, особенно выделяя «стадию зеркала» как периода образования эго через узнавание себя. Ж. Лакан анализирует чувство вины и подчеркивает, что вина появляется каждый раз, когда личность следует своим желаниям и руководствуется импульсами ид, а значимый другой отвергает личность. Лакан выделяет три типа чувства вины: невротическая, меланхолическая, потеря субъектности (Lacan J., 2007).
Невротическая вина (первый тип) или вина неполноценности связана с принятием личностью на себя ответственности за недостаток другого. Чувство вины возникает, когда индивид переживает невозможность удовлетворить свои желания в значимом другом, который не готов к этому.
Второй тип чувства вины, выделяемый Лаканом, – это меланхолическая вина, выражающая ненависть к себе в связи с утратой близости и возможности удовлетворить свои потребности. Этот тип вины также относится к невротическому варианту.
Третий тип – извращенная позиция потери субъектности, ее отвержение в результате принесения себя в жертву значимому другому. Парадоксальным образом именно этот тип чувства вины максимально отражает моральную проблематику, так как значимый другой отождествляется с моральным законом и личность становится средством, инструментом реализации морального закона другого.
Лакан дополняет подход Фрейда собственной интерпретацией механизма действия «эдипова комплекса». Подчиненность изначальному необъективированному желанию создает у субъекта ощущение неполноценности. «Эдипов комплекс» становится вторичным образованием – неудавшимся желанием, отражающим стремление к абсолютному, но недостижимому наслаждению.
В противовес классическому психоанализу Эрих Фромм предлагает иной путь реализации внутренней природы субъекта – бытийность, которая задает альтернативный вектор развитию нравственности. Стремление к обществу, потребность в укоренении и принадлежности другим, с одной стороны, и стремление к уединению, потребность в индивидуализации, независимости от общества, с другой стороны, порождают внутренний конфликт, который направляет развитие личности и ставит ее перед выбором реализации одного из двух способов существования: «бытийного» или способа «обладания» (ссылка).
Ориентация на модус обладания «иметь» означает отчужденность от других, индивидуализацию и ориентацию на внешние показатели благополучия, общественную значимость и материальную защищенность. Ориентация на модус «быть» – выбор единения с людьми через ценностные ориентиры, достижение цельности и свободы человека в самореализации и возможности быть собой. Механизм выбора заложен в процессе самоосознания и выходе за пределы своей пассивности. Активность и преодоление случайности существования делают человека субъектом нравственного выбора и связывают его с другими людьми.
Нравственное отношение к себе и к миру возможно только для активной личности, осознающей свою субъектность и терпимо принимающей субъектность других. В противовес, пассивную личность, не осознающую свою индивидуальность, поглощает модус обладания, не совместимый с истинной нравственностью. «Осознание того факта, что никто и ничто вне нас самих не может придать смысл нашей жизни и что только полная независимость и отказ от вещизма могут стать условием для самой плодотворной деятельности, направленной на служение своему ближнему» (Фромм Э., 2014, с. 176).
Определенный шаг в направлении интерпретации потребностных механизмов развития морали был сделан в русле гештальтпсихологии, в частности, одним из ее основателей Куртом Левиным. Общественное поведение К. Левин рассматривал в понятийном пространстве «теории поля», которая характеризует социальное поведение человека как динамическое поле сил, где цели личности и ее потребности взаимодействуют с окружающей средой, создавая жизненное пространство личности. Это пространство Левин графически представлял «джордановыми кривым» – овалами, отражающими взаимосвязи между различными составляющими жизненного пространства личности, ее целостными гештальтами.
Левин наметил основные социально-психологические закономерности поведения человека, которые легли в основу теории когнитивного диссонанса, развиваемой Л. Фестингером. Одним из способов разрешения морального конфликта становится, согласно этой теории, изменение собственных установок и признание оправданности собственной аморальной позиции. Когнитивный диссонанс – закон возникновения негативного побудительного состояния в ситуации одновременной актуализации противоречащих друг другу «знаний» (мнений, верований, ценностей) об одном объекте, что вызывает необходимость изменения одного из представлений. Впоследствии диссонанс стали определять как следствие недостаточного оправдания выбора (оценки или поступка).
В отличие от других концепций теория когнитивного диссонанса давала отчетливое объяснение многим проявлениям аморальности. Совершая антигуманные действия, люди, считающие себя нравственными, в соответствии с законом когнитивного диссонанса начинают приписывать жертвам антисоциальные качества, оправдывая свои поступки. Кроме того, сторонники противоположных взглядов интерпретируют одни и те же факты и события противоположными точками зрения и игнорируют ту информацию, которая может вызвать когнитивный диссонанс, а принадлежность к группе меняет моральные установки личности.
Обобщая концептуальную позицию в отношении морального развития, предложенного в психодинамических подходах, в качестве главных достижений следует выделить анализ мотивационно-потребностных механизмов развития моральных саморегуляторов личности, а также анализ возрастной динамики становления этических инстанций.
Однако психодинамические концепции ограниченно воспринимают возможности нравственного совершенствования личности под влиянием воспитания и обучения, недооценивают роль образования в моральном развитии личности и игнорируют когнитивные факторы морального развития. Тем не менее психодинамические концепции заложили серьезную базу научного психологического изучения нравственного развития.
Подход к моральному развитию в теориях научения
Моральное развитие в бихевиоризме раскрывается в категориях интерсубъектного взаимодействия и является преимущественно внешним процессом приспособления к условиям среды или конкретной общественной морали. Это социоцентрическая позиция, где за обществом закрепляется ведущая роль в формировании личности. Мораль, в терминах бихевиористов, является продуктом взаимодействия человека и окружающей среды, который может меняться под влиянием различных преимущественно внешних факторов (социальных образцов, когнитивных оценок, системы санкций и социального отклика).
Моральное развитие в поведенческой психологии Б. Ф. Скиннера
Теоретики научения рассматривают социальные детерминанты морального развития как базовые и выводят их из норм окружающей среды, которая является главенствующим регулятором поведения. Отказавшись от изучения таких проявлений человеческой психики, как сознание, воля, чувства, сторонники бихевиоризма фактически закрыли дверь познания структур нравственности в психике, сводя любые проявления психического к внешнему наблюдаемому поведению. Наряду с множеством других психологических явлений, мораль отправлялась во второразрядную компанию субъективных реальностей, которые являются, согласно Бенджамину Фредерику Скиннеру, лишь «вербальными конструкциями, грамматическими ловушками, в которые попало человечество в процессе развития языка» (Хант М., 2009). Эти понятия в теории научения отвергаются, будучи объяснительными сущностями, которые сами не определены и не могут быть объяснены объективными законами. Поэтому мораль быстро заменяется бихевиористами на просоциальное поведение, альтруизм получает интерпретацию с позиции скрытой пользы, а нравственное развитие понимается как исключительно адаптационный процесс.
Любопытно, что в публичную психологию Скиннер вошел через обсуждение моральной дилеммы, впервые предложенной М. Монтенем: «Сожгли бы вы в безвыходном положении своих детей или свои книги?» В телевыступлении Скиннер завил, что сохранил бы книги, так как они несут серьезный вклад в будущее, тогда как детей можно и сжечь, – он мало что ожидает от своих генов.
Все, что мы можем понять в психологии, согласно Скиннеру, – это наблюдаемые результаты поведения и его внешние причины, которые вместе дают линейную картину организма как системы, осуществляющей поведение. Автономная, волеющая и желающая личность, в понимании детерминиста Скиннера, – иллюзия. Хороший человек – это человек, у которого выработаны рефлексы вести себя подобающим образом, а хорошее общество – это общество, наладившее контроль над поведением методами позитивного подкрепления («поведенческая инженерия») (Хант М., 2009).
Соблюдение моральных норм с позиции теорий научения объясняется путем установления связи между аморальным поступком и вызванными наказанием неприятными переживаниями. Б. Ф. Скиннер выделяет среду как основной источник контроля нравственного характера поступков через механизм оперантного обусловливания (Фрейджер Р., Фейдимен Дж., 2007). Контроль над собственным поведением строится на основе условно рефлекторного обусловливания, которое вызывает моральную тревогу в ответ на определенные действия или ситуации.
В зависимости от того, одобрен или не одобрен поступок взрослым, формируются ориентиры просоциального поведения у ребенка. Б. Ф. Скиннер предлагает следующий анализ альтруизма: мы уважаем людей за их хорошие поступки только тогда, когда мы не можем объяснить эти поступки. Мы объясняем поведение людей их внутренними диспозициями, когда нам не хватает внешних объяснений. Когда же внешние причины очевидны, мы исходим из них, а не из особенностей личности.
Ребенок не является моральным или аморальным, характер его поступков зависит от подкреплений контролирующей среды. В первоначальном своем виде теории научения рассматривают моральное развитие как формирование желательных форм поведения путем поощрения (вознаграждения) и торможения нежелательных форм путем наказания. Так, Ганс Айзенк выдвигает гипотезу об условно рефлекторном регулировании морального сознания (Айзенк М., Айзенк Г.Ю., 2001). Регулярные наказания в схожих ситуациях формируют у ребенка чувство тревоги и страха, которое актуализируется при нарушении моральной нормы. Это позволяет сохранять поведение моральным даже в отсутствии явной угрозы наказания, т. е. моральная норма регулирует поведение, не являясь формальным знанием.
Дж. Аронфрид уточняет в своих экспериментах, что внутренний самоконтроль эффективнее развивается в ситуации, когда наказание предшествует поступку, то есть запускается с опережением и через механизм тревоги подавляет негативные действия.
Обогативший бихевиоризм идеями глубинной психологии и гештальтпсихологии, Эдвард Толмен бросил вызов механизму «стимул – реакция», настаивая на целостности поведения и единстве мотивационных и когнитивных структур психики. В сложном поведении, включая моральное, организм строит программу действий, основываясь на определенных ожиданиях (экспектациях) в отношении окружения и ориентируется на «гештальтзнаки», своеобразные точки определения значения стимулов в проблемных ситуациях (Общая психология, отв. ред. В. В. Петухов, 2001). Соответствие типичных моделей поведения экспектациям формирует устойчивые связи и становится саморегулятором сложного поведения.
По мере накопления экспериментальных данных, необихевиористы отмечают значение подражания как фактора социального научения, высказывают предположения о ведущей роли образцов поведения взрослого. По мере развития самоконтроля и саморегуляции приобретаются устойчивые формы имитационного поведения, соответствующего поведению взрослых. Деятельность морального сознания определяется формированием самоконтроля.
Моральное развитие с позиции социального бихевиоризма
Оригинальную позицию в отношении специфики морального развития мы обнаруживаем в социально-когнитивной теории Альберта Бандуры. А. Бандура, сторонник необихевиоризма, утверждает, что в основном поведение человека регулируется посредством подкрепления самого себя. Он использует термин «саморегулирование» для обозначения усиливающего и уменьшающего эффекта самооценивания. С точки зрения Бандуры, поведение усиливается саморегули-руемыми побуждениями через мотивационную сферу. В результате достижения определенных целей возникает самоудовлетворение, которое влечет за собой формирование мотива прилагать все больше усилий, необходимых для достижения желаемого поведения. Уровень самопроизвольной мотивации субъекта зависит от типа и ценности побуждений и природы норм поведения.
Бандура выделяет три процесса, составляющие основу саморегуляции поведения: самонаблюдение, самооценка и самоответ. В зависимости от личных стандартов поведение оценивается как достойное одобрения и, следовательно, поощряемое или как неудовлетворительное и наказуемое. Вообще поведение, соответствующее внутренним нормам, воспринимается личностью как положительное, а не соответствующее – как негативное. Самооценка определяется также прошлым поведением – его воздействием на постановку целей. Другой фактор, влияющий на самооценку и регулирующий поведение, – личная заинтересованность в деятельности. В тех сферах жизни, которые влияют на благополучие и самоуважение, самооценивание производится постоянно. В значительной степени на самооценку влияет то, каким образом люди воспринимают причины своего поведения.
А. Бандура утверждает, что реакции самооценки регулируют большой спектр поведения человека и в первую очередь поведение в соответствии с моральными требованиями, нормами. Когда люди нарушают свои внутренние нормы поведения, они склонны осуждать себя и тревожиться, так как в ходе социализации ребенок неоднократно переживал устойчивую последовательность событий: проступок – внутренний дискомфорт – наказание – облегчение. Следуя этой схеме, действия, не соответствующие внутренним нормам, вызывают самоосуждение, негативную самооценку, не проходящие до тех пор, пока не наступит наказание. Осуждая себя за недостойные в моральном отношении поступки, человек осуществляет самонаказание. Терзания по поводу неправильного или разочаровывающего поведения парадоксальным образом снижаются самокритикой. В крайних случаях длительное самонаказание, основанное на излишне строгих нормах самооценки, вызывает негативные последствия в форме депрессии, апатии, ощущения никчемности. Оценка самоэффективности определяет и развитие межличностных отношений.
Высшей формой морального развития становится саморегуляция поведения в отсутствие видимой угрозы наказания, а понятия «должного» или общечеловеческих ценностей подменяются просоциальны-ми, конкретно общественными нормами поведения. Задача общества – повышение социальной компетентности личности и социализация детей как научение сдерживать и регулировать свои агрессивные чувства и естественные биологические желания. Таким образом, поведение, в том числе и моральное, регулируется и мотивируется сложными связями между факторами окружающего воздействия и внутренними факторами ожиданий, самовосприятий, стандартов и т. д.
Дальнейшее развитие концепция бихевиоризма получила в теориях социального научения, в частности в теории социального обмена и теории социальных норм. Обе теории объединяет подход, при котором в альтруистическом поведении выделяются два типа просо-циального поведения: обоюдный обмен в духе «ты – мне, я – тебе» и поведение оказания помощи, которое определяется внутренними поощрениями и саморегуляцией индивида. Теория социального обмена оценивает моральные взаимоотношения как своеобразные сделки, ставящие своей целью увеличить «вознаграждение» и уменьшить «затраты»: «Мы даем, чтобы получить» (Майерс Д., 2007). Оказание помощи человеку может быть мотивировано внешними и внутренними вознаграждениями. Человек стремится помочь больше всего тем людям, которые для него привлекательны и расположения которых он добивается. Альтруистические поступки усиливают у субъекта чувство собственного достоинства и обеспечивают ему самовознаграждение, тем самым уменьшая дистресс. По сути, данная теория представляет собой теорию эгоизма – личный интерес определяет поведение.
Просоциальное поведение включает в себя сотрудничество, участие, стремление помочь другим. Результаты экспериментальных исследований в этом направлении показали, что просоциальное поведение заставляет человека чем-то пожертвовать, предполагает определенные расходы или даже риск и может быть реакцией на положительные мотивационные или эмоциональные состояния. Чаще всего люди склонны к проявлениям просоциального поведения, когда они довольны, спокойны и готовы проявить сочувствие.
Д. Батсон утверждает, что значительную роль в решении оказать помощь играет эмпатия. Когда у субъекта возникает сочувствие, он обращает свое внимание на страдания других, а не на собственный дистресс. Любящие родители страдают, если страдают их дети, и ощущают радость вместе с ними. У людей, склонных к жестокости, обнаруживается отсутствие эмпатийных чувств. Подлинное сочувствие и сострадание мотивируют субъекта помогать другому человеку в его собственных интересах (Майерс Д., 2007). Просоциальное поведение становится результатом интернализации внешних, преимущественно социальных оценок и эмоций, связанных с ситуациями социального взаимодействия.
Сторонники теории социальных норм интерпретируют альтруистическое поведение исходя из двух общественных норм. Они считают, что альтруистическое поведение мотивируется либо нормой взаимности, либо нормой социальной ответственности. Норма взаимности относится преимущественно к взаимоотношениям равных с равными. Субъект склонен оказывать помощь тем, кто потенциально может оказать помощь ему, или оказывает помощь в ответ на какие-то услуги. Человек ожидает своего рода «дивидендов» после того, как вкладывает свои усилия или чувствует необходимость отвечать взаимностью, когда принимает чью-то помощь. Что же касается взаимоотношений людей, стоящих в зависимом положении, то здесь помощь мотивируется преимущественно нормой социальной ответственности – зависимое положение не позволяет дать столько же, сколько получаешь.
Исследования просоциального поведения и социального научения позволили сторонникам этих теорий существенно отодвинуть в начало онтогенеза возраст первых попыток совершения про социальных действий детьми. Исследования показали, что просоциальное поведение берет начало в раннем детстве и может быть обнаружено у детей уже на границе младенчества и раннего возраста. Некоторые исследователи предполагают, что моральное чувство возникает на втором году жизни ребенка. Дети раннего возраста демонстрируют эмпатические отношения и первичное осмысление стандартов, то есть факторы, определяющие дальнейшее развитие морального сознания. Так, дети на втором году жизни показывают естественный интерес к нормам в своем отношении к объектам или событиям, которые нарушают нормативы, заданные взрослыми. Дети демонстрируют значительный интерес к расстройству взрослого или когда видят сломанную игрушку, порванную одежду. Также повышенный интерес вызывают предметы с каким-либо изъяном (Lamb, 1996).
В середине второго года жизни дети пытаются утешить другого человека, проявляющего дистресс. Это поведение впервые появляется в 12 месяцев по отношению к близкому, к любимой игрушке, а к 18–24 месяцам это поведение становится более дифференцированным и развивается в зависимости от материнской заботы.
Просоциальное поведение складывается под влиянием социальной среды и опосредуется дружескими отношениями, заботой, человеческой теплотой и социальным пониманием. Более того, исследования особенностей аморального поведения детей этого возраста позволяют предсказывать поведенческие, эмоциональные проблемы в возрасте 6 лет. Исследования ранней агрессивности с точки зрения моральной перспективы позволяют говорить о недостатке развития эмпатии у агрессивных детей. Моральные чувства, появляющиеся в раннем возрасте, становятся компонентом поведения, запрещающего агрессию в дальнейшем, и одновременно компонентом формирующихся моральных структур самосознания: чувства стыда и гордости.
Обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что сторонники бихевиорального подхода к моральному развитию замыкают этот процесс на внешнем аспекте, на присвоении образцов, подражании и системе поощрений и наказаний. Однако внутренний механизм присвоения образцов фактически не раскрывается, не учитываются эмоциональномотивационные процессы. Нравственность в бихевиоральной интерпретации сводится к просоциальному поведению, ориентации на выгоду (в том числе и социальную). Фактически всем проявлениям морального поведения приписывается социальное или внутреннее одобрение, существование истинного альтруизма ставится под сомнение.
Вместе с тем в рамках теории научения был выделен образец морального поведения взрослого как фактор развития соответствующего морального поведения ребенка на основе подражания и закрепления поведения через внешнюю регуляцию взрослым. Дальнейшие теоретические разработки необихевиоризма позволили включить саморегуляцию и эмпатию в модель морального регулирования личности.
Когнитивные теории морального развития
В русле когнитивного, а по сути эволюционного подхода к моральному развитию осуществлялись наиболее обширные и наиболее глубокие исследования психологии морального развития личности. Это работы Жана Пиаже, Лоуренса Кольберга, Деннис Кребса, Нэнси Айзенберг, Кэрол Гиллиган и ряда других исследователей. Когнитивные теории морального развития пользуются наибольшей популярностью и оказали, пожалуй, самое значительное влияние на развитие психологии нравственности.
В школе когнитивной психологии У. Найсера и Р. Л. Солсо психика понимается как система когнитивных реакций, обусловленных внешними стимулами и внутренними переменными, такими, как самосознание, селективность восприятия или когнитивные стратегии. Моральное развитие в рамках когнитивной школы оказывается процессом выработки когнитивной стратегии, основывающейся на взаимодействии субъектов.
В когнитивном подходе моральное развитие понимается как эволюционный, динамический, поступательный процесс. Одной из главных заслуг этого подхода является постановка проблемы этапов нравственного формирования личности, тем самым подчеркивается акцент на динамическом, развитийном моменте. Моральное развитие разворачивается во взаимовлиянии факторов когнитивного развития ребенка и факторов социального взаимодействия, то есть когнитивный подход к моральному развитию предстает как интеграция персоноцентризма и социоцентризма в моральном развитии.



