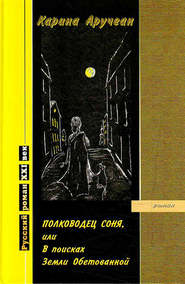скачать книгу бесплатно
существ, чисел и понятий,
которых никогда не было
и которые были всегда…
И во всём Этом, вместе с Ним,
в блаженстве
от динамического напряжения
и прибывающей энергии
она вибрировала в предчувствии
неизбежного Акта Творения
пульсирующей точкой
.
– Как ты могла, Соня? Как ты могла? Мы искали тебя два дня… Думали, ты в тайге замёрзла… или что тебя волк съел, – плакала мама.
– Она так правдоподобно всё рассказала… Мы ни минуты не сомневались в том, что она сирота, и собирались завтра везти её в Канск… ведь у нас детский дом только для мальчиков, – оправдывалась директор детдома.
– Тебе совершенно не надо было никуда идти, чтобы победить Кощея, – сказала мама. – Ты можешь поступать в таких случаях куда проще! Я виновата, что не рассказала этого раньше. Ты ведь воскресный ребёнок – родилась в полдень воскресного дня. А воскресные полдничные дети обладают особым даром, только обращаться с ним надо осторожно. Их рисунки могут оживать. Их слова могут превращаться в реальность. Им достаточно чего-то сильно пожелать – как это осуществится. Вот ведь и дядя Иван сказал то же самое… Только смотри, как бы не населить мир чудовищами!
Зырянин дядя Иван в числе других встречал беглянку, журил её и радовался, что она нашлась. А когда Соня рассказала, что видела в тайге зелёный луч, странно посмотрел на Соню:
– Не всем дано зелёный луч увидеть. Кто видел его, тому особая сила дана, и открыто ему больше, чем другим…
Засыпала Соня в объятьях мамы, усердно думая о том, чтобы Кощей сам умер, и царство его рассыпалось.
Утром она проснулась от шума за окном, чьих-то рыданий и печальной музыки, медленно плывущей из громкоговорителей по Тасееву. Музыка была такой щемящей, и литавры так ужасно били по сердцу, что Соня расплакалась.
– Не смей плакать! Не смей! – вдруг закричала мама. – Радоваться надо! Это злодей умер…
– Кощей? – задохнулась Соня.
– Да…. Теперь другая жизнь начнётся.
– А почему люди за окном плачут?
– Не все знают, что это был Кощей.
– Сталин? – не поверила ушам Соня, услышав, как медленный трагический голос из громкоговорителя произнёс это имя, перебив траурную музыку.
– Да. Это и был самый главный Кощей…
Значит, она всё-таки победила Кощея? Достаточно было просто пожелать, а перед этим честно постараться сделать всё, что в её силах?
Жизнь в самом деле походила на захватывающую сказку…
Календарь показывал 5 марта 1953-го года.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
– Вырвалась!
Час назад, узнав, что зачислена на факультет журналистики МГУ, Соня поехала с Манежа, где находился факультет, на Воробьёвы Горы к Главному высотному зданию Университета, недалеко от которого раскинулся Студгородок, – устраиваться в общежитие. Задержалась у МГУшной высотки. Долго разглядывала шпили и башенки, уходящие в синее июльское небо, ощущая, как за спиной шевелится и дышит «кипучая, могучая» столица, сердце Родины. Теперь на пять лет это будет её город. А там – посмотрим!
Она видела себя как бы со стороны: вот она, крепенькая, лёгкая, такая маленькая – немногим больше полутора метров! – и такая победительная! – с пижонской сумкой на длинном ремне через плечо стоит у подножья самого «умного» здания в главном городе страны, и чопорная высотка тенью легла ей под ноги, и неприступный город приглашающе распростёрся перед нею. И свежий ветер красиво треплет её густые каштановые кудри с рыжиной, вспыхивающей под солнцем. И большие карие глаза красиво блестят, как у Одри Хёпберн, играющей Наташу Ростову на первом балу. И красиво вздрагивают от возбуждения ноздри чуть крупноватого носа на смуглом лице с лёгким румянцем. И сочные яркие губы слегка приоткрыты, как перед поцелуем.
В этот миг самоупоения она предала забвению – предала?! – всю свою прежнюю жизнь, которая стала вдруг совершенно ненужной. Отодвинулись все, населявшие эту жизнь. Они были чудесными и много ей дали, но Соне от них уже ничего не надо кроме того, чтобы они так же жили там, где живут, и чтобы она, если захочет, всегда могла к ним ненадолго вернуться.
Всё прошедшее спало с неё, как сухая шелуха со спелой луковицы, оставив белый тугой плод без одежд. И только слабым шуршаньем шелуха тихо напоминала о себе, что была. Была, но сейчас, мёртвая, валялась у ног – и Соня вот-вот переступит через неё и пойдёт дальше, а ветер унесёт шелуху. Вот-вот так и случится. Вот-вот. Пусть только ещё чуть-чуть пошелестит шелуха, пошепчет о былом… Оно уже не имеет власти над Соней.
– Вырвалась! – это победное слово рефреном повторялось в ней, как бы наливаясь силой, набухая от повторения и распирая ощущением свободы, полёта и предчувствием новой – обязательно прекрасной! – жизни. Её очертания проступали манящими картинками будущего, откуда – будто настраиваешь приёмник – доносились обрывки незнакомых мелодий, слов, сменяющих уже слышанные звуки станций, мимо которых проскочила ручка настройки…
…Так же тринадцать лет назад вышла она в изобильное солнце бакинского двора, вдохнула горьковатый запах нефти и акаций, перемешанный с приторным ароматом пенных бело-розовых олеандров, росших в маленьких палисадниках перед распахнутыми во двор дверьми, – и её обняло будущее, где предстояло жить, обрушился гомон, из которого постепенно выделились отдельные голоса, накладываясь на мелькающие в ней голоса покинутого Тасеева, клочковатые фразы вагонных разговоров, картинки и шумы страны, трудящейся за окнами поезда.
Прежние звуки будто прибыли вместе с Соней, задрожали эхом, слились с нынешними в невидимом колоколе под ослепительно синим небом бакинского двора, оглушили – и надо было выделить из них собственную мелодию, обозначить себя в новом мире, не затеряться среди множества разновозрастных ярких черноглазых детей, обступивших и заваливших вопросами – откуда она, кто её родители.
– Папа в Сибири пока работает. У меня ещё старшая сестра есть. Взрослая. На пятнадцать лет старше. Раньше она тут жила, потом в Москве училась. Сейчас в Эстонии с мужем живёт, в Таллине. Там есть улица Длинная Нога и улица Короткая Нога… Сестра – учительница русского и литературы. А я с мамой сюда из тайги приехала. Там белки, зайцы, медведи, волки. И зелёный луч. И снЕга – горы! И дома не такие, как здесь, а избушки. А до этого мы на Украине жили, в Бориславе. Там бандеровцы из леса выходили, людей убивали. Их боялись, пока всех не выловили… А тут, в Баку, – папин отчий дом. Квартира, то есть. Тут у вас здорово! Лучше, чем там, где я бывала.
Незнакомые названия, которыми она походя сыпала, завораживали ребят, большинство которых никогда не уезжали дальше Ростова, плохо представляли себе «горы снЕга», а бандитов видели только в кино. Соня была «девочка с прошлым». А то, что она признала превосходство Баку – а значит, и их превосходство! – полностью примирило с нею: и у них есть, что показать-рассказать.
Первый раунд Соня выиграла. Надо закрепить победу:
– А знаете, мои мама и папа – мне не родные…
И специальная пауза – для возбуждения интереса.
– Это тайна. Ну, ладно… только никому не говорите! А проболтаетесь – скажу, что сами сочинили…
Снова пауза – артистизм был не чужд ей. И – громким шёпотом:
– Меня удочерили, когда я была ещё грудняшка, ползунок. Думают: я не знаю. Говорят: я в Баку, родилась. А на самом деле я – со звезды.
– Врёшь! Чем докажешь?
– Может, вру, – неопределённо мотнула головой, – а может, не вру… Как хотите, думайте!
– А как ты попала со звезды сюда?
– Врать дальше? – с лёгкостью был выигран второй раунд. – Я с рождения много любопытничала, вот и уползла далеко. Там, на звезде. Села на камень. А он отвалился от моей звезды и упал на Землю. И попал вместе со мной к теперешней маме в огород. В Бориславе…
– А как ты не убилась?
– А я в лопухи упала. Они мягкие… А вообще, какая разница, кто откуда?! Не хотите – не верьте! Давайте играть!
Так и оставила загадку.
Про звезду Соня не совсем врала. С тех пор, как в ней обнаружились подтверждённые взрослыми волшебные умения, не свойственные большинству людей, Соня решила: это не потому, что она воскресный ребёнок, – мало ли кто родился в воскресенье?! Наверное, она найдёныш, родные родители на далёкой звезде до сих пор горюют, ищут её.
И хотя очень любила «приёмных» маму и папу, но часто вечерами, когда ложилась спать, горько плакала от тоски по настоящим маме-папе и родине, которых лишилась, не успев хорошенько узнать.
Однако город Баку ласково обнял, защекотал морским ветром ухо, нашёптывая незнакомые вкрадчивые слова, обдал жарким дыханием долгого лета, – и, не торопясь, незаметно проник в неё.
И воды новой родины бережно и любовно понесли Соню.
Пронизанная солнцем папина квартира плыла, как огромный старинный корабль под парусами бьющихся на ветру занавесок, – через раскрытую дверь по увитому виноградом крылечку на шумный зелёный квадратный двор, который вытекал в город сквозь туннель подворотни и распахнутый зев железных ворот. Течение разбивалось на потоки, струилось по улицам нарядного просторного города мимо пальм, лавров, кипарисов. И несло к морю. На её планете тоже, наверное, было море – так взволновало оно Соню, так защемило сердце смутным воспоминанием. И она полюбила его – снова и навек.
Двухкомнатная квартира с огромными смежными комнатами, трёхметровыми потолками, таинственными стенными шкафами, длинным тёмным коридором с дубовыми сундуками, через который вдруг сразу выныриваешь на солнечную веранду-кухню с распахнутыми для прохлады дверьми во двор, была богата сокровищами, как пещера Аладдина или пиратский корабль. Пока пробежишь по ней, в самом деле начнёт качать, как на корабле, от обилия впечатлений и пространств, заполненных волнующими вещами.
Мерцал потемневшим лаком буфет с фигурным фронтоном, где баловались толстые ангелочки – стоит лишь отвернуться! Потрескивали, разговаривая друг с другом старческими голосами, шкафы с медными ручками-лапками, скрывающие кучу тяжёлых книг с золотыми обрезами, как в Бориславе у тёти Кыси. Начнёшь листать такую книгу – и она запАхнет, запАхнет чем-то старинным, чему нет названья, зашуршат тонкие пергаментные листы, хранящие тайну спрятанных под ними картинок.
На стенах в резных рамах жили кавалеры и дамы. На этажерке – вспыхивающие инкрустацией шкатулки с россыпями пуговиц и ворохами ниток, домики-портсигары. На просторном письменном столе – тяжёлый чернильный прибор с ветряной мельницей и мальчиком у колодца с бочонками, куда наливались красные, синие и чёрные чернила. На широких подоконниках – накрытые марлевыми шапочками трёхлитровые баллоны с вареньями-соленьями.
И над всем этим плясали в солнечных лучах радужные пылинки, колыхался кипельно белый тюль занавесок, запуская со свежим ветром запахи с «того двора». Так, в отличие от главного – большого, «переднего» – двора, называли маленький узкий участок, вытянутый под окнами их квартиры на первом этаже, отгороженный от остального мира инжировыми деревьями.
Там, в хибарке, обвитой виноградными лозами, жил древний, сам скрюченный и коричневый, как лоза, старик Дадаш. Он разводил коз и кур, питался яйцами, козьим молоком, инжиром, виноградом и «чем Бог пошлёт».
Крик петухов Дадаша, неожиданный в городе, будил по утрам Соню. И она, ещё в трусиках и маечке, бежала во двор – в туалет. В их квартире, как и в других квартирах этого двухэтажного дома туалетов не было. Они располагались по четырём углам большого главного двора и служили темой вечных раздоров между соседями:
– Сирануш! Твоя очередь клозет убирать! Не забыла?
– Какой клозет, Марго?
– Уборную, темнота, уборную!
Казалось, жизнь обитателей этого многонационального дома круглый год проходила во дворе, и все про всех всё знали, потому что всегда, кроме трёх зимних месяцев, было тепло – и почти никогда не закрывались двери квартир, из которых летели через двор перекрёстные разноязыкие крики. Несмотря на частые короткие ссоры, здесь царили дружба народов, взаимовыручка и взаимопонимание. Общим языком был русский, как и во всём городе. Но армяне спрашивали азербайджанцев о чём-то по-азербайджански, желая подчеркнуть уважение к собеседнику, те отвечали по-армянски, дабы ответить той же любезностью.
– Салам алейкум, Мамед!
– Барев[22 - Салам алейкум – здравствуй (азербайдж.). Барев – здравствуй (армянск.).], Геворк!
– Неджясян, Мамед?
– Камац-камац[23 - Неджясян – как поживаешь? (азербайдж.). Камац-камац – потихоньку (армянск.).], Геворк.
А на другой день:
– Вонцес, Геворк?
– Йаваш-йаваш[24 - Вонцес – как поживаешь? (армянск.). Йаваш-йаваш – потихоньку (азербайдж.).], Мамед.
По двору бегали армянские дети с азербайджанскими именами и азербайджанские дети – с армянскими. Если в семье умирал первый ребёнок и Бог давал второго, то его – чтоб обмануть нависший над семьёй рок – называли именем бабушки или дедушки соседа другой национальности, и соседи становились «кирвЯ» – кумовья.
В адрес детей то и дело летели страшные проклятья вперемешку с ласковым «балик-джан»[25 - Балик-джан – дорогое дитя (армянск.).], но при этом их обожали и позволяли почти всё:
– Балик-джан, Грета, клёхет тагэм[26 - Клёхет тагэм – голову твою похороню (армянск.).], сходи, наконец, в магазин купить маме яички! Пока ты соберёшься, из них цыплята выведутся! Аствац танэ кез![27 - Аствац танэ кез – чтоб тебя Бог забрал (армянск.).]
Но если кто-то повышал голос на их детей, матери налетали на обидчика ястребом:
– Тётя Гаянэ, зачем на ребёнка кричишь? Подумаешь, стекло мячом выбил! Зачем тебе стекло? Всё равно окна всегда открыты.
Лёгкий юмор с обязательной подковыркой вился между слов:
– Арташес, иди домой! Тебе важней я или нарды?
– Ва-а! Конечно, нарды, Ашхеник, курочка моя! Помогают тебя терпеть…
– Сара Абрамовна! Можете одолжить луковицу (сахар, муку, пару картофелин)? Честное слово, отдам!
– Ай, Тамара, вечно ты шо-то просишь! Шоб отдать всё, шо ты назанимала, весь рынок скупить придётся. И шо ты себе думаешь? Твой босяк-сапожник сможет тебе заработать на весь рынок? Конечно, нет. Ну, иди, иди – одолжу. И не клянись честным словом. Ты про честь разве понимаешь? Ты про честь думаешь: она между ног прячется – дочь свою никуда не пускаешь, боишься – честь отнимут. Так пора уже и добровольно отдать – ей ведь под тридцать…
Дочь с «честью между ног», толстая томная усатая Анечка, невозмутимо сидела на крылечке часами, подперев щёку пухлой рукой и загадочно улыбалась, – точь-в-точь Мона Лиза!
Каждое утро начиналось с криков торговцев, старьёвщиков и мастеров, обходящих бакинские дворы в поисках заработка. У каждого – своя мелодия выкрика.
Все старьёвщики кричали на один манер:
– Старве-е-ещ пакпа-а-а-им! Старве-е-ещ пакпа-а-а-им!
И дети бежали к родителям выпрашивать старые вещи, потому что за это старьёвщики давали им, по их желанию, не деньги, а дудочки, хлопушки, блестящие пуговки.
Все стекольщики вставляли в свой выкрик явственное икание:
– Сте-ик-к-ла вставляйм! Сте-ик-к-ла вставляйм!
Мацони – особый местный кефир – привозили на маленьких серых ишачках. По их бокам на скрученной жгутом тряпке, перекинутой через худенькую спину, висели тяжёлые бидоны. Ишачок цокал копытцами, делая обязательный круг по двору. За ним летел истошный крик торговки (это обычно были женщины-мусульманки с убранными под чёрные платки волосами, закутанные до пят в чёрные мешковатые одежды с длинными рукавами и почему-то всегда в галошах):
– Ма-а-цу-у-у-ун! Ма-а-цу-у-у-ун! – длинное распевное высокое «у» под цоканье ишачка долго отдавалось эхом. Свежий с кислинкой запах только что створоженного молока дразнил ноздри.
В небе над двором бились на ветру белые простыни, развешенные между окнами второго этажа от стены до стены напротив. Двор от этого походил на большой корабль с парусами. Впечатление усиливал скрип роликов, через которые переброшена двойная верёвка, чтобы прямо из окна подтягивать к себе высохшие вещи или, наоборот, – незанятую бельём часть верёвки, когда надо повесить постиранное.
Простынные «паруса» хлопали и ниже – над самыми головами: верёвки натянуты и между деревьями. А чтобы не задевать бельё головой, верёвки подпирали, поднимая их вверх высокими деревянными шестами, похожими на мачты. Их называли «подстановки». Казалось: двор опутан корабельными снастями.
Были у этого корабля и свои трюмы: подвалы по периметру двора – бесценные лабиринты для пряток или игры в путешественников, придуманную Соней.
Она привнесла много нового в местную жизнь. Организовала театр, став, конечно, его главным режиссёром и сценаристом, не забывая указывать это в программках. Выявив у каждого таланты, подбирала репертуар, разучивала с ребятами стихи-песни, репетировала сценки. А по воскресеньям под акацией расставляли стулья, взрослым продавали билеты по двадцать копеек – и начиналось представление. На вырученные деньги покупали мороженое. Стала выходить ежемесячная газета «Наш двор». Почти настоящая – тиражом в пару десятков экземпляров. Конечно, издателем, редактором и ведущим корреспондентом была сама Соня, но и другим позволяла развернуться. «Штат» её «сотрудников» – от пяти до пятнадцати лет – разнюхивал новости, предлагал темы статей. Соня сочиняла заметки, делала первый экземпляр и отдавала «в типографию» – корпорация переписчиков с красивыми почерками «тиражировала» газету. А малыши продавали её за те же двадцать копеек, что и билеты в «театр», – цена на всё была стандартная. И потом опять пировали.
Соня всех беззастенчиво использовала, но никто не был в обиде. Каждый получал своё от такого симбиоза. Мир и разумная деятельность поселились во дворе.
Взрослые души в ней не чаяли, ласково щипали за щёчку: