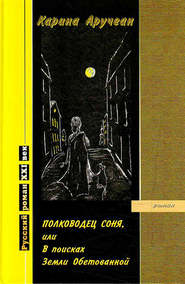скачать книгу бесплатно
Знаток Достоевского и его усатый командир приглянулись сониным соседкам по комнате: беленькой юной Верочке из Тулы и тридцатилетней хохлушке Милане – сплошные бёдра, исторгающие, казалось, прямо из сокровенных своих глубин богатый «нутряной» голос, которым Милана бесподобно пела украинские песни. От волнующего контральто и форм Миланы командир захмелел с первой рюмки и, начав с галантного поцелуя ладошки, стал перемещать усы выше по полной руке, пока не разместил их в ямочке на миланиной округлой шее, вздрагивающей от мощных струй низких нот. И затих. «На долыни туман, на долыни туман упав», – самозабвенно пела Милана щемящую украинскую песню. Розовощёкий знаток Достоевского сидел в обнимку с замершей Верочкой, застенчиво двигая пятернёй-лодочкой по её плечам, пытаясь как бы невзначай подплыть к груди, а второй рукой безостановочно кидал в рот еду, включая скромные месячные запасы всей комнаты, которые хранились тут же, на краю стола под полотенчиком.
– Ну и что мы теперь есть будем? Их цветы, что ли? – тихо спросила Соню четвёртая их товарка Катя, которая припозднилась и теперь с ужасом смотрела на обгрызанные шкурки от НЗэшного шмата сала и смятый пустой кулёк, где ещё утром было два кило пряников. – Ты этих живоглотов привела? Забыла, как тебе накостыляли за дрессировщиков с их наглыми обезьянами?!
– Живы будем – не помрём, – отмахнулась Соня и пошла бродить по общежитию в надежде застать что-то более интересное, чем обнимающиеся парочки.
Впрочем, чего ещё она хотела? Вроде бы для этого всё затевала. Но кураж пропал. Пожарные оказались скучными. Дамы слишком быстро сдались. Затеянный спектакль показался нелепым.
…Длинный, как кишка, полутёмный коридор вздрагивает звуками – будто идёшь по музыкальной школе. Обрывки ритмов складываются в странную мелодию. Распахнуть любую дверь, чтобы в лёгкие ворвался сигаретный дым, в уши – музыка, чтобы чьи-то руки затормошили, подхватили, обняли в танце, и чьё-то горячее дыхание с лёгким запахом алкоголя заскользило бы по лицу, защекотало шею… Нет, не хочется!
«Проходит жизнь. Проходит жизнь. Как ветерок по полю ржи. Проходит явь. Проходит сон. Любовь проходит. Проходит всё. Но я люблю. Я люблю! Я люблю!!!!» – надрывается кто-то под гитару.
«Тoмбэ ля нэжэ…» – сладко грустит за другой дверью Адамо с пластинки. Через пару шагов обволакивает низкое щемящее «Йестэдэй…», двигается вместе с Соней, переходит в нежное девичье сопрано, тоскующее о том, что «нельзя рябине к дубу перебраться», а за дверью напротив страдает баритон: «Чому я нэ сокил? Чому нэ летаю?» – будто это общежитие не будущих филологов и журналистов, а музыкантов и певцов.
Соня идёт по пустынным коридорам.
Мимо. Мимо. «Мекки и Рима мимо»…
Странные образы входят в Соню, становятся ею.
В шуршащем кринолине скользит она по зеркальному паркету мимо залов, где кружатся в танце белые кавалеры и розовые дамы. Минуту назад она сама плыла розовой дамой по залу, и сердце хотело выпрыгнуть в горячие руки кавалера, которые промелькивали в жаркой близости от её ланит, касаясь то талии, то плеча, и взблескивало золото на белых одеждах кавалера, наводя дурман, и взгляд его проникал в ложбинку между оголёнными подушечками, выпирающими из декольте, и будто вытаскивал сокровенное из Сони, вытаскивал, так что она теряла волю, и мысли уже не нужны были, превращаясь в томящее ощущение: «Всё равно! Всё – всё равно. Пусть будет, что будет. Были и есть только мужчина и женщина. И эти бело-розовые одежды, и золотые всполохи блёсток и света, и волны музыки, кидающие друг к другу, – всё только для того, чтобы мужчина и женщина соединились на миг». Но опять настигает, придавливает: «Всё проходит. И никто не в силах ничего удержать».
«Йестэдэй» – «вчера»…
И пальцы, став на мгновение пальцами четырёхлетней девочки, вспоминают стремящуюся сквозь них шероховатость ускользающего песка.
Волшебство кончается. Белые с золотыми вспышками кавалеры и розовые дамы съёживаются, тускнеют. Уже не дамы с кавалерами кружатся по сверкающему залу, а маленькие серые и чёрные точки хаотично петляют, то сливаясь, то разбегаясь, – это похоже на броуновское движение частиц в мерцающей капле воды, которое Соня наблюдала когда-то на уроке сквозь сильный микроскоп и которое потрясло её фатальной нелепостью случайных соединений и отталкиваний… щемящей значительностью, заключённой в полном отсутствии значительности и смысла.
И вот уже не пенный кринолин на Соне, и не серая невзрачная оболочка безымянной частицы, вовлечённой в броуновский водоворот, а коричневое платье из рогожи, неровно подоткнутое под верёвочный пояс, – она маркитантка, тяжело шагает за повозкой под тусклыми звёздами мимо отдыхающих солдат, которые похожи на брошенные вповалку мешки. Уродливые грубые лица, вырванные из темноты всполохами костров, – будто с картин Босха. Кто-то храпит и рыгает во сне, кто-то выводит унылую мелодию на губной гармошке, кто-то тискает увязавшихся за армией селянок. Из-под тёмных деревьев – всплески смеха, возня, сопенье. Живые твари, случайно появившиеся на свет, случайно оказавшиеся в той или иной точке времени и пространства и готовые умереть завтра, – все хотят одного: кушать, совокупляться и в промежутках между этим спать. И маркитантка с её кашами и похлебками ничем не лучше визжащих в любовном экстазе селянок и похотливых солдат. И белые кавалеры с розовыми дамами не лучше их всех. И всех жалко. И себя тоже. «Супу! Кому супу?» – устало шагает маркитантка за повозкой с котлами…
Мимо. Мимо. «Мира и гОря мимо, мимо Мекки и Рима»…
Куда? Для чего всё? Есть ли какой-то смысл в этих картинках, похожих на сновидения?
…В полумраке холла тихо плачет вахтёрша тётя Хеля, Рахель Самуиловна:
– И мои Сенечка с Норочкой могли бы сегодня так же веселиться. И учились бы не хуже других. Сенечка такой способный был! На скрипочке играл. А Норочка танцевать любила. Я ей платьице с оборочками сшила – эти оборочки так смешно прыгали, будто тоже танцевали. Ни Норочки не осталось, ни платьица – снять перед ямой заставили.
– Какой ямой, тётя Хеля? – у Сони холодеет сердце.
Тётя Хеля будто не слышит:
– Это платьице я потом на зинаидиной дочке увидела. На коленях перед Зинаидой ползала: «Отдай, – говорю, – платьице». А она: «Скажи спасибо, что сама жива осталась! Бог твой еврейский тебя, наверное, сильно любит – шепнул, чтоб ты в тот день на рынок в город подалась». «Нет, – отвечаю. – Любил бы, с детьми бы не разлучил». Колечко с пальца снимаю: «На, – говорю, – колечко. Ты на него всегда заглядывалась. Отдай платьице. Колечко дороже платьица». Зинаида колечко взяла, а платьица не отдала. «Всему-то вы, жиды, счёт знаете – что дороже, что дешевле. А колечко возьму, – говорит, – за благородство моё: что совет даю убраться отсюда поскорее, пока я тебя ни немцам, ни полицаям не выдала. Я в благородстве понимаю. Не то, что Гапка. Твои жиденята ведь от ямы в лес уползли – и к Гапке: откройте, мол, тётя Гапа. А Гапка…»
Тётя Хеля шумно сморкается, нервно крошит штрудель, из которого сыпется изюм, и долго молчит, глядя в пространство, будто силится понять странные повороты души человеческой, которая даже вблизи смерти мелочно суетится и хочет что-то урвать.
– Ой-вэй! Разве так можно?! Наверное, можно, раз так было и есть. Слаб человек…
И сникает, сникает перед неизбежностью предательства, бессмысленностью жизни, случайностью гибели. И принимает это, не понимая саму себя: как можно принять такое?! И чувствует себя предательницей, что живёт и даже ест штрудели.
– Что тут сделаешь? У Гапки своих трое сынов было. Я их Гапке перед войной спасла, я детский врач была. Даже ночами приходила уколы от дифтерита делать. Месяц выхаживала. Свой бульон из своих курочек носила, не жалела резать. Штрудели с Сенечкой и Норочкой им посылала. Вот почему дети мои к ней побежали… Я потом никогда уже педиатром не работала – детей не могла видеть, плакала…
– А что Гапка? – тихо спрашивает Соня.
– Дети мои к ней стучатся. Голенькие. Вокруг зима. От ямы очереди автоматные. Cюда сотни евреев с ближних местечек фашисты свезли. Раздеться заставили. Вокруг свои же соседи-украинцы их одежду делят. Друг с другом ругаются, когда что-то поделить не могут. Время трудное было, вещи нелегко доставались. Если уж всё равно людей убивают, не пропадать же добру! Шум, полицаи матерятся, немцы гавкают. А Гапкин дом – вдали, у леса. Она ребят увидела, в окно высунулась – и в крик, чтоб выстрелы перекричать: «Панэ полицаи! Панэ полицаи! До менэ жиденята прибежалы! Сбегли от вас жиденята». Докричалась. Убили моих деточек на её пороге. Так Зинаида рассказала… А я всё думаю: зачем Гапка полицаев звала? Могла бы просто дверь не открыть, затаиться. Дети в лес бы ушли, на партизан бы наткнулись. Конечно, воспаление лёгких схватили бы, раздетые, но партизаны, может, их бы вылечили. Или так и лучше, что сразу? Долго не мучились. Двадцать три года после того живу и всё прикидываю, как лучше было бы… Зачем живу?
Соня гладит тётю Хелю по голове:
– Вы хорошая, тётя Хеля. Вот зачем живёте. Чтоб от вашей доброты нам теплее делалось. Ведь мы все здесь в общежитии без родных, как сироты. А вы нам как мама…
Соня лукавит: тётя Хеля могла уморить нотациями, но была в самом деле добра, – и Соне хочется поддержать её, утвердить в осмысленности существования. Это завтра Соня будет ускользать от тётихелиных приставаний, а сейчас любит её больше всех на свете и готова всё для неё сделать. Соня гладит тётю Хелю. Недавние розовые фантазии кажутся стыдными, надуманными, пустыми.
Глаза влажнеют, но Соня злится на подступившие слёзы, – они тоже придуманные, невсамделишные: так плачут в театре, когда страсть актёров и яркая игра трогают душу. А тут не игра, тут жизнь: сердце человека разрывается на её глазах… разрывается – и разорваться никак не может. Какое право имеет она, благополучная, плакать о том, чего не пережила? Но становится ещё стыдней, когда вдруг понимает, что плачет не об убиенных, а о себе, отождествив себя с детьми перед закрытой дверью и с теми, кто стоял у ямы в минуте от смерти. Длится, длится минута, вбирая в себя тоскливое серое небо и голые ветви на его фоне, которые сейчас исчезнут, как исчезнет всё, что было… будто не было. Соня цепенеет от животного ужаса. И слышит истошный детский крик петуха. И видит остановившийся вместе с выстрелом дым из труб, птицу, замершую в полёте…
Соня ловит себя на мысли, что наслаждается богатством собственных переживаний, примеряя чужие судьбы и радуясь в глубине души, что это всё – не с ней. Она просто использует рассказ тёти Хели, чтобы полакомиться остротой ощущений, наполнить себя чем-то, из чего потом должно вылупиться что-то – она сама не знает, что. А пока она – полая, вбирает в себя шумы извне! Другие обманываются впечатлением её самости, а она всего лишь реакция, отражение.
Возвращается в тела тех, кто стоит у расстрельной ямы. Услужливо возникает оправдательная мысль: может, им было бы легче, знай они, что кто-то незнакомый будет так чувствовать и плакать о них, как бы становясь ими. Но опять пронзает жгучий стыд – за это «как бы» и за то, что на самом деле эгоистично смотрит лишь в собственную глубину.
И тонет, тонет в бездонной печали фатального человеческого одиночества, увлекаемая в пучину грузом открывшегося вдруг понимания, что невозможно полностью перетечь в другого, полностью отрешиться от себя, – каждый заперт в границах своего существа, своего опыта.
Клетка – неделимая первичная основа всего живого. И то, где запирают, изолируют от других.
Лишь на время – рукой, взглядом, чувством – удаётся соприкоснуться с теми, кто рядом.
Жизнь по касательной. Мимо… мимо… «гОря и мира мимо». Тьфу, опять литературщина лезет. Стыдно! Как стыдно за всё! А главное, за то, что эти мысли зачем-то важны для её собственной жизни. Полезны. И как бы само думается, что их надо запомнить, что они пригодятся.
Какая она корыстная тварь! Как любит себя! Как интересна сама себе, ловко делая кормом для души и разума чужое горе, чужие переживания, чужую жизнь и даже чужую смерть… Хорошо, что никто не может прочесть её мыслей!
А они текут себе параллельно тётихелиному скорбному рассказу, складываясь в слова, а те – в урок приятия того, что пресловутое единение душ даже в моменты сопереживания и любви – миф, мечта, и не стоит ожидать этого никогда ни от кого, потому что это невозможно, ибо каждый для другого (и она, Соня) – отдельный, и являет собой лишь факт реальности среди множества иных фактов. Не более того! Надо согласиться с ролью всего лишь «факта реальности». И быть вполне удовлетворённой, если «факт» в твоём лице кого-то порадовал, чуть-чуть повлиял на течение событий, породил что-то хорошее, послужил яблоком для какого-нибудь Ньютона.
В этот момент Соня навсегда избавляется от пустых ожиданий и претензий. Её отношения с людьми станут теперь проще. Каждый сам по себе – и уже за то стоит быть благодарным, если кто-то заинтересуется ею как «фактом реальности», захочет на время быть рядом, разделить с нею отрезок пути. И не обижаться, если на очередном повороте попутчик свернёт в сторону – это нормально. Если принять отдельность людей и дистанцию между ними – принять не разумом, а сердцевиной души! – то не станешь попусту терзать ни себя, ни ближних, упрямо желая полного единения, ибо это невозможно. И Соня в последний раз грустит об этом.
Тётя Хеля благодарна Соне за слёзы, не подозревая, что вызваны они посторонними мыслями:
– Ты хорошая девочка. Ласковая. На мою Норочку похожа. Хочешь штруделя? По старой памяти пеку. Для кого? Ем сама и плачу. Ведь и мужа моего на войне убили. Всю родню по расстрельным ямам Украины и Белоруссии позакапывали. А потом ямы те засыпали, стадионы и дороги на них построили. Нет могил – будто и людей, что в них лежат, не было. Теперь по еврейским косточкам футболисты бегают, машины ездят. Никак в ум не возьму: почему там не памятники, не вечный огонь? Или еврейские косточки того не стоят? Или забыть скорей хотели, что хвалёная дружба народов трещину дала, а трещина в эти страшные рвы обратилась? Ведь свои же евреев продавали! Украинцы, белорусы, литовцы, эстонцы, русские. А ведь евреи их детей учили-лечили, часы чинили, мужчинам костюмы и сапоги шили, жёнам – платья красивые и туфли-лодочки, лёгкие, как пушинка, на свадьбах музыку играли, драк не затевали, водку не пили, чужого не брали… Ой-вэй!
Посторонние мысли лезут и лезут в голову. Возник вдруг и стал проговариваться в уме обрывок сказки, слышанной когда-то в Тасееве:…встретила добрых молодцев Баба Яга. Накормила-напоила, в бане попарила, спать уложила. А поутру стала спрашивать, чего тем надобно. «Невест ищем». «У меня есть дочери, – говорит Баба Яга. – Может, кто из них приглянется». Вывела дочерей, стол накрыла – пируйте! И в лес пошла травы собирать. Вернулась: на колах – дочерины головы, а добрых молодцев и след простыл – поехали дальше счастья искать…
– Почему они Бабе Яге злом за добро отплатили?
– Так ведь Баба Яга же, – удивлялся рассказчик непонятливости маленькой Сони.
– Но она же их поила-кормила, в бане парила, дочерей в невесты предлагала!
– Так ведь всё равно – Баба Яга…
Получалось: что ни сделай Баба Яга, – попользоваться можно, но ничто благодарности не достойно. На всё ей и детям её один ответ: смерть! За то, что Баба Яга. Чужая. А добрые молодцы, хоть часто совсем не добрыми оказывались, – всегда правы, всегда герои. И уверены, что после таких «геройств» можно счастье найти… что заслужили его. И сами в этом убеждены, и те, кто про них рассказывает. Потому что добрые молодцы – свои.
У нас – разведчик. У них – шпион…
«Бей жидов, спасай Россию!» – еврей испокон века был Бабой Ягой.
Были и другие «нечистые». В 1917-м добрые молодцы спасали страну от таких, как сонин дедушка. В 30-х – от таких, как её папа. В войну руководство СССР назначило нечистой силой крымских татар, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, карачаевцев, турок-месхетинцев…
В разные времена нечистой силой назначали разных – по социальному признаку, по религиозному, по национальному. Потом сменяли гнев на милость – тех, кого не успели расстрелять и сгноить в лагерях, снова принимали в семью братских народов, забыв извиниться.
А тётя Хеля говорит, говорит, будто Баба Яга из сказки жалуется и никак понять чего-то не может:
– Не осталось в стране еврейских местечек. Мы про дружбу народов в газетах читали, фильмы смотрели. А в жизни часто слышали обидное. Добр – значит, еврейский грех замаливаешь. Мол, знает кошка, чьё мясо съела. Чьё мясо я ела, азохенвэй?! Я своё отдавала, как тех курочек гапкиным детям. А потом жизни забрали – и забирать стало нечего. Но всё почём зря виноватили! Нам всё в вину… Были, конечно, и человечные – нас не обижали, еврейских детей от немцев прятали. Таких было много. Но и жестоких немало… А гапкины сыны потом все трое пожарниками стали. Я сегодня как пожарных увидела, опять всё вспомнила. И вот что думаю. Если б Гапка моих детей тогда впустила, то может, и её семью под корень бы извели. Значит, чтоб её сыны сотню-другую детишек от огня спасли, двое моих погибнуть должны были? Такая арифметика у Бога. Неправильная…
И Соня, у которой с Богом были сложные отношения и вопросов к Нему не меньше, чем у тёти Хели, вдруг стала горячо Его защищать:
– А чем Бог виноват, тётя Хеля? Бог людям выбор предоставил: идти в полицаи или в партизаны. Или хотя бы не наживаться на чужом горе, не использовать чужую подлость для своей выгоды, как сделали те, кто сам не расстреливал, но одежду убитых делил и занимал дома расстрелянных. Попользовались плодами чужой подлости – значит, сами подлости причастились. Бог ещё в Раю за человеком право выбора оставил – съесть яблоко или удержаться от соблазна, следуя Божьему завету? Не удержались. С тех пор крен в неправильную сторону и пошёл. И Зинаиде Бог выбор предоставил. И у Гапки выбор был: спрятать детей или позвать полицаев… или, как вы сами сказали, просто затаиться, чтоб на себя беду не навлечь, но и греха предательства не брать на душу. Она худшее выбрала. Богу, наверное, самому грустно смотреть на всё это. И судить потом Он будет по мыслям и делам нашим. А пока мы живём, Он надеется, что правильный выбор сделаем. Не обязывает – надеется! И смотрит. Выбор – это наша ответственность. Не может он людей принуждать. Тогда он не Бог был бы, а диктатор!
– Может, и так, – соглашается тётя Хеля. – Может, и в самом деле Он подсказки даёт и смотрит: услышим ли? Может, и вправду Он подсказал гапкиным сынам пожарными стать – материн грех искупить? Ты умная девочка. Возьми штруделя, соседок угостишь.
Достаёт из сумки кус, заворачивает в газетку. Соня невольно взвешивает дар рукой – и думает подлую мысль, что своим участием заработала для себя с подружками еду взамен сожранной гостями.
– Спасибо, тётя Хеля! Не только за штрудель. За всё спасибо.
– За что? – удивляется та, но ей приятно.
– Знаете, это ведь ваш рассказ натолкнул меня на мысли о выборе и личной ответственности. И на всякое другое. Очень важное. Ещё час назад я думала, что всё случайно и бессмысленно. А сейчас так не думаю. Вы мне ответ дали. Будто наш разговор подстроен кем-то. Не случаен. И ваши слова про арифметику Божью. Я про эту арифметику одну историю вспомнила. Давайте расскажу.
– Погоди, – встаёт тётя Хеля, направляется к коридорным туннелям и кричит в них зычным, почти базарным, голосом. – Отбой! Отбо-о-ой! Кончай музыку. Скоро разгонять гостей пойду! Полчаса на прощания!
И совсем другим тоном – ласковым, усталым:
– Ну рассказывай про свою высшую арифметику.
– Папа мой был дважды репрессирован, в сталинских лагерях семнадцать лет провёл. Однажды, – это на Воркуте было, в первую ходку, до моего рождения, – сделался совсем доходяга, слёг. Сняли его с довольствия, чтоб еду на доходягу не тратить. Отволокли в заброшенную угольную выработку – умирать. И стал к нему местный врач тайно наведываться – одеял натащил, еды, лекарств. Выходил. А потом рассказал, что семейный грех замаливал. Жил он в детстве с матерью тоже в Баку. Мать домработницей у многодетного купца-армянина работала. Относились к ней хорошо, но бес попутал – когда началась революция, украла она у купца драгоценности покойной жены и скрылась. Время голодное. Украшения потихоньку продавала и благодаря этому сына в сытости содержала. А когда сын тифом заболел, продала напоследок какой-то особый изумруд из украденных ценностей – даже ювелир удивился: мол, таких изумрудов – раз-два и обчёлся. Отвоевала сына у смерти. И полученных денег им ещё надолго на сытую жизнь хватило. А спустя годы рассказала сыну, что грех на её душе, что купец с детьми потом много бедствовал, она узнавала, но духу не хватило пойти к его семье и покаяться. И имя купца назвала: Аветис Гаврилович Арутчев. Но и сын после материной смерти не стал купца искать, чтоб повиниться. А вспомнил эту историю, когда моего отца умирать бросили, и решил: «Раз я выжил благодаря бедствиям какой-то армянской семьи из Баку, в которых мать моя была виновна, пора долг отдать – спасти другого бакинского армянина». И вот вам, тётя Хеля, Божья арифметика. Тот купец – мой дед по материнской линии был: мамин отец. Я с детства слышала от мамы про украденные украшения и про изумруд особенный. И получается: если б не заработал мой дед-купец драгоценности и не украла б их домработница, не спасла бы сына от тифа, то не спас бы потом этот выросший сын моего умирающего отца, мужа дочери того купца, – и я б не родилась…
– Жестокая арифметика.
– Да. Но как удивительно «части уравнения» потом сошлись!
– Д-да… Людям даётся возможность кое-что исправить… Но деткам моим за что смерть такая страшная?! Чтобы какой-то там ответ в этой высшей алгебре сошёлся? А иначе нельзя было составить задачку?
– Наверное, нельзя. Не знаю я этого, тётя Хеля. Может, человеку этого не понять? Может, тут, как в математике, свои правила? Нравятся они нам или нет, но – правила. Или даже законы…
«Похоже, в самом деле кому-то там наверху надо было, чтобы папа выжил и меня родил? – додумывала Соня, попрощавшись с тётей Хелей. – Более того, если папу не посадили бы вторично перед войной, то как “врага народа” послали бы на фронт в составе штрафбата – и он наверняка бы погиб. И опять же я бы не родилась. Будто кто-то специально допустил эти жестокие хитросплетения, чтоб я на свет появилась. Выходит: я зачем-то нужна? Что-то вроде Спаса на крови? И мне тоже сцеплять какие-то разорванные нити? Как тот лагерный врач сцепил их через четверть века… Он понял это – и восстановил нарушенный ход вещей. Пойму ли я? Если не выполню назначение – то получится: эти ужасы были напрасны! А какое у меня назначение? Сверху не подскажут. Сама же говорила тёте Хеле: Бог никого не обязывает – лишь надеется на наш правильный выбор. Но ведь не шепнёт – какой правильный. Это каждый раз решать самой…»
– Соня, ты какую тему для курсовой взяла? – окликает, плюхаясь с книжками и тетрадками на диван в холле, серьёзный до унылости Кеша Тютьев, который обычно выходил сюда заниматься после полуночи, когда соседи по комнате устраивались спать. – Я никак не могу выбрать.
– А я не ориентировалась на список. Сама тему придумала: «Маленький человек в русской и советской литературе».
– Хм, и утвердили? – восхитился Кеша. – Не сказали, что в СССР нет «маленьких людей», а следовательно – нет «маленького человека» и в произведениях советских писателей?
– Примерно так и сказали, – весело отозвалась Соня, обрадовавшись, что Тютьев перебил её трагический настрой. – Посоветовали ограничиться русской дореволюционной литературой.
– А ты?
– Согласилась. Мне же легче! Меньше писать…
– Покладистая ты слишком, – не одобрил принципиальный Кеша. – Это же твоё право – выбор темы. Струсила, что в антисоветчицы запишут?
– Зачем по пустякам нарываться? Ради принципа? Повод мелковат! Смешно, когда с принципами на унитаз садятся, – уела на ходу Тютьева Соня, направляясь к своей комнате. – Я баиньки. До завтра!
– Что, «нормальные герои всегда идут в обход»?
Соня остановилась. Он про сейчас? В смысле, что она уходит от разговора? Или про вообще?
Начала заводиться:
– Главное – понимать, куда идёшь. Сейчас – спать. А вообще мне диплом получить надо. У меня родители старые. Долго тянуть меня не смогут. Может, конечно, это не ответственность, а трусость. Но я и не стараюсь выглядеть героически. Не хочу из-за ерунды ставить под удар ни себя, ни родителей. Да ещё на старте! Чтоб с дистанции сняли?
– Не боишься, маневрируя уже на старте, ориентиры потерять и не туда вырулить?
– Не драматизируй. Любишь бурю в стакане воды разводить! Что, я другой стану, если полтемой обойдусь?
– Может, и станешь. Гибкая ты слишком…
Опять этот Тютьев настроил её на серьёзный лад! Лёгкие препирательства стали превращаться в тяжёлую дискуссию. «Буря выплеснулась из стакана – лезу в бутылку», – хихикнула про себя Соня, но завелась основательно. Вернулась. Села на диван. Загорячилась:
– А я и не хочу быть железобетонной. От ортодоксов – одни беды, даже если они движимы благими намерениями. Помнишь, чем путь в ад вымощен? Фанатичным правдорубам людей порубать ради куцей идеи – ничего не стоит. Я буду воевать лишь в крайнем случае, когда другого выхода нет. И то вначале хорошо его поищу.
– Я же не штыком махать советую! «Мы к штыку приравняем перо» – я о пере. Вспомни Фрейда: «Когда человек вместо камня бросил в недруга ругательство, то сделал первый шаг к цивилизованности»…
– …а когда вместо ругательства произнёс: «Погоди, давай спокойно разберёмся – может, поймём друг друга и договоримся», то сделал второй шаг. Твой Фрейд до этого не додумался. Это я тебе говорю. Запиши в свой цитатник. Разговор лучше ругани, если есть хоть малая возможность разговора.
– Так и я про разговор. Курсовая – это же способ высказаться.
– Не-а, ты не про разговор. Ты про доказывание своей точки зрения. Про монолог. А я про диалог. Про нащупывание точек пересечения интересов. В случае с курсовой – правила игры другие. Мы не дискутируем. Я пишу – преподаватель ставит зачёт. Или незачёт.
– И тем не менее у Огарёва: «Только выговоренное убеждение свято». А это Герцен: «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека»…
– Знаешь, – усмехнулась Соня, – меня может удовлетворить и многое другое. Я не Чацкий – мне не надо компенсировать речами скрытые комплексы. Вспомни: с чего он озлился? Самолюбие оскорбили: с девушкой не вышло. И начал всех поливать. Себялюбец он не меньше Молчалина. Просто действовали по-разному. Сказал ли Чацкий хоть о ком-то доброе слово? Нет. Он только в своих глазах был хорош. Себя любил – не Софью. Повыпускал жёлчь, подставился сам – и отправился «искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок». Знаешь, как ни противен Молчалин, он по крайней мере адекватней Чацкого…
– Так всё-таки противен?
– Противен. Подлец бесчувственный, приспособленец. Но вреда от него меньше. А нервный прототип Чацкого – Чаадаев – всех возбудил и за границу слинял. Обличать с безопасного расстояния и мучиться ностальгией. Тоже мне, героический страдалец! Тем, кто в России остался, хуже пришлось. Проследи цепочку: началось с «благородных» выкриков чаадаевых – закончилось братоубийственной гражданской войной и сталинскими лагерями. Да и закончилось ли? Уж очень наш народ полюбил обличать. То эти – тех, то те – этих. Вот и ты меня сейчас обличаешь. Хочешь, чтоб я обличала других. Потом те, кого я обличу, меня обличать начнут. А ты запишешься в мои сторонники и станешь обличать тех, кто обличает меня… И не будет этому конца.
– Ну и благоразумная же ты Мальвина!
– Вовсе нет. У меня пока тоже одни порывы. Но я не тороплюсь действовать радикально. Живу одним днём и стараюсь разобраться. В себе и вообще…
– Сороконожка стала думать, какую ногу первой вперёд заносить, – и ходить разучилась!
– Да я не о том, что про каждый шаг надо думать. Это невозможно. И скучно. Но я чувствую: вначале надо понять что-то главное про себя, про других, про мир вообще. А когда пойму, то потом уже это «главное» само будет изнутри подсказывать правильные шаги. Само. Думать о них не придётся. Исходный выбор станет облегчать другие выборы…