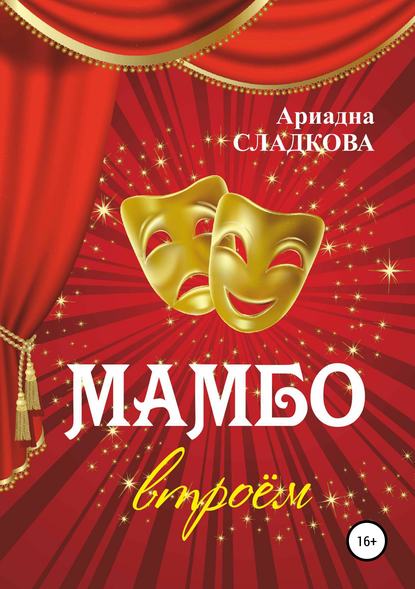 Полная версия
Полная версияМамбо втроём
– Верно, в душе что-то перевернулось, и я становлюсь верующим человеком, а возможно, и всегда им был.
Этот решающий международный шахматный матч проходил в Центральном Шахматном Клубе. Противник Петричкина был необыкновенно изощрен. Разыгрывали один из любимых дебютов Петричкина – испанскую защиту, он играл за черных. Павел Иванович не спеша обдумывал стратегию ходов, был предельно сосредоточен; промаха быть не должно, он надеялся на приз, на то, что сможет повысить свой рейтинг.
– Главное – не отвлекаться, не потерять равновесие, – чувствовал он. Напряжение достигло кульминации. Он сделал решающий ход. Такой смелости он давно не ждал от себя и понял, что интуиция не подвела его. Однако он еще и еще раз просчитывал, прикидывал и в этот момент напоминал сам себе старого и опытного лиса, взявшего след. Внезапно он ощутил слабое головокружение, у него сильно закололо в правом виске, и все поплыло перед глазами. Партия была отложена…
Он лежал в своей кровати в своей комнате, мать хлопотала на кухне у плиты, готовя лично для него круглые котлетки без лука. Так было всегда: продолговатые с луком для всех, круглые для него. Предчувствие каких-то перемен мучило его. Так было всегда: он остро ощущал надвигающиеся неприятности, невзгоды. Он проклинал свою невыдержанность, что встретился с женой накануне матча, чего делать никак было нельзя, да еще она ошарашила своей беременностью, да еще малютка кричала полночи, корчилась и тужилась, и жена объясняла это тем, что у нее жирное молоко, вспомнилась головная боль утром от бессонной ночи, но затем он вновь переключился на игру и незаметно для себя уснул… Теперь ему снилась не шахматная партия, как это часто бывало, его вдруг охватило волнение. Он бежал к Белому дому, где недавно на набережной участвовал в постройке баррикады из каких-то труб, где стояло с десяток танков, где милиция и военные стреляли в воздух, и ему так страстно хотелось верить в новую жизнь. Он вновь проделывал тот же маршрут: от Белорусской долго бежал по Грузинскому Валу, натыкался на оцепления из военных и милиционеров, бежал какими-то дворами, наконец, очутился на Зоологической и оттуда как на ладони увидел Краснопресненскую и верхушку Белого дома с красным флагом. В голове прокручивались тревожные сообщения о захвате власти ГКЧП. Он поддался всеобщему возбуждению новой революции, перестройке. Чувствовал, что история как бы остановилась перед ним, хотя все это напоминало ему какие-то декорации.
Он все же сумел выиграть тот памятный матч, а спустя несколько месяцев после перестройки приятели, тоже шахматные мастера, собрались на турнир во Францию и агитировали его принять в нем участие. Это было очень заманчивое предложение. Для них первый матч после смены власти в новых условиях, которые они еще не успели до конца прочувствовать… Не верилось, что теперь можно будет свободно выезжать за рубеж, волновало и пьянило чувство внезапной свободы. Павел Иванович только недавно стал «международником» и еще никогда не принимал участия в крупных турнирах подобных этому. Несмотря на недостаток средств, мать и даже жена советовали ему ехать. Призы предполагались небывалые, ведь советская шахматная школа была сильнейшей. Петричкин решился на поездку и закрутился в повседневной суете по оформлению паспорта и других документов.
– В конце концов я сделал все, что было в моих силах, не вечно же быть нищим.
Но он колебался, ему было неловко занимать для поездки у матери, но что было делать.
– В Париже пригодятся, к тому же надо будет привезти подарки, посмотреть Францию, а на какие шиши, – рассуждал он, такое слово любила употреблять его бабушка, хотя почти был уверен, что времени ни на какие поездки у него не будет. Оно будет жестко распланировано для игры.
Припекало, в воздухе чувствовалось приближение весны. Товарищи рассказывали Петричкину, что в это время в Париже должна стоять почти летняя погода. Все же он решил ехать в куртке и джинсах, укладывая в чемодан свой единственный костюм. Мать советовала взять с собой свитер на случай, если он будет мерзнуть ночью. Билеты были взяты на ранний утренний рейс, но для Павла Ивановича это не являлось неудобством. Он жил недалеко от Войковской, и до Шереметьева ему было подать рукой.
В тот вечер перед отлетом настроение у него было отменным. Все вещи уже были собраны, и новенький аккуратно уложенный чемоданчик рядом с громоздкой сумкой со съестными продуктами и консервами ожидали своего часа в коридоре. Старики уехали на день рождения к другу отца. Петричкин ожидал жену и был счастлив, что в этот вечер они смогут остаться одни, а пока он составлял новый этюд, который никак не мог довести до конца. Телефонный звонок отвлек его от любимого занятия.
– И это в самый ответственный момент! – злился он. Звонил Славка, школьный друг.
– Опять инопланетяне, пришельцы, астрология! – с недовольством подумал он, зная пристрастие товарища к таким темам.
– Не даст доиграть, это уж точно… И обидеть его перед отъездом не хочется, – с досадой размышлял он. Точно, это был Славка. Беседа затянулась, и только они закончили и он вновь взялся за этюд, как тоненький резкий звонок застал его врасплох.
– А может, притвориться, что меня нет дома? Но ведь это наверняка Лиза! Она испугается, подумает что-нибудь нехорошее, – размышлял он. Нехотя побрел он к двери. В глазке увидел улыбающееся лицо жены. Рывком открыл дверь, обнял ее.
А310 приземлился в аэропорту де Голль, и Павел Иванович Петричкин ступил на землю Франции. Никто из его родителей за границу не выезжал, были не выездными, и ему казалось, что они у него за спиной, и он на все смотрит их глазами. Все здесь было необычно: и иностранные самолеты, и полицейские в незнакомых касках, и сам аэропорт. У него родилось ощущение, что он попал под стеклянный купол, где неизвестные ему существа из другого мира рассматривают его в лупу. Пока шахматисты ждали багаж, Павел Иванович, как ребенок, катался на эскалаторах взад и вперед, наслаждаясь свежестью фонтана в центре аэропорта, и фотографировал его с различных ракурсов. Время от времени он прикладывал руку к внутреннему карману куртки, куда были положены и аккуратно зашиты матерью деньги, которые Павел Иванович выделил себе на поездку для осмотра страны и покупки подарков. Такие деньги Петричкин еще никогда и никуда не возил и все время волновался за них.
– Зря я взял такую сумму, – думал он и чувствовал, что не сможет потратить из нее ни одного франка.
Автобус плавно катил шахматистов в Париж. Вокруг Павла Ивановича раздавались щелчки фотоаппаратов, верещали видеокамеры. Он и сам фотографировал все подряд, так как все, что он видел, казалось ему из другого мира, очень необычным. Особая архитектура, чем-то напоминающая прибалтийскую, ухоженные домики, окруженные зеленью, прекрасная дорога с множеством туннелей. Особенно поражали его зеркальные здания банков и предприятий экзотических форм. Незаметно въехали в Париж. Площади с памятниками и фонтанами, великолепные дворцы… Петричкину ужасно не хотелось, чтобы путешествие кончилось. Казалось, что он испытывает прямо-таки физическое наслаждение от него.
Отель, к которому подъехал автобус с шахматистами, был, вероятно, самым маленьким в Париже и находился в Латинском квартале. «Катрин», – прочитал Петричкин и понял, что чудесный путь их по Парижу закончен. В голове смешались названия улиц и площадей. Турнир начинался завтра в десять часов утра, и у него была впереди еще вся ночь. Несмотря на усталость, никто из шахматистов и не думал высыпаться перед турниром. Портье передал Петричкину ключи от номера. На третьем этаже, блуждая по узким и запутанным коридорчикам, Павел Иванович разыскивал свое новое жилище. Ему казалось, что меньше его комнаты в хрущевке не бывает, однако, найдя на двери нужные цифры, он втиснулся в узкий «пенал», облицованный коричневой плиткой, с окном под потолком и увидел двуспальную кровать, которую должен был разделить с одним из своих товарищей. Еще за одной неприметной дверкой скрывался крохотный туалет с игрушечным душем. «Гнездышко для голубых», – мелькнуло в его сознании. Однако долго размышлять по этому поводу он не собирался. Договорились всем скопом гулять до утра, и он, бросив дорожную сумку на тумбочку возле кровати, поспешил через хитро сплетенные коридорчики снова на первый этаж, в вестибюль, где должен был встретиться с товарищами. Вечерний Париж шумел и манил, привлекал яркой иллюминацией и рекламой. Между площадью Пигаль и Мулин Руж бродило много негров и арабов, озабоченных, с бегающими глазами. У Петричкина и товарищей «Красная мельница» вызывала воодушевление и подъем, ощущение свободы, опьянения.
С картой города шахматисты бродили по улочкам, наметив продолжительный маршрут, продвигаясь к Эйфелевой башне. Захотелось попеть русских песен, откуда ни возьмись появилась ностальгия. Заглядывали в окна, пытаясь угадать непонятную жизнь, удивлялись громадным квартирам, ухоженным балконам и чистоте улиц. Долго глядели вслед «чистильщику» улиц на мотоцикле, убирающему бумажки и сор пылесосом, находящимся в специальном ящике на багажнике. Бродили долго, пересаживались с автобуса на автобус, стремясь осуществить намеченный маршрут. В очереди за билетами на башню разглядывали интернациональную толпу. В большущем лифте, битком набитом людьми, Петричкин с товарищами поднялись на самую последнюю площадку башни. Под ногами сверкал и шумел Париж. Внезапно Павел Иванович ощутил едва уловимый запах духов и чье-то легкое прикосновение. Он повернул голову и заметил рядом с собой молодую мулатку. Она с улыбкой что-то произнесла на французском языке, извинялась, но Петричкину показалось, что ее глаза блестели очень призывно. На следующей площадке он вновь заметил ее, и женщина как бы невзначай снова обратилась к нему. Павел Иванович не понимал, что она говорит, но ему было очень приятно, что на него обратили внимание. Некоторое время они бродили по площадке, и француженка показывала ему Париж, затем незнакомка жестом пригласила его пройти к столику в кафе.
– Неужели я понравился ей? – поразился он и подумал, что это поистине ночь приключений. Шахматисты с пониманием поглядывали на них, и Петричкину казалось, что все ему завидуют. Никогда он не пользовался успехом у женщин, напротив, многие относились к нему с пренебрежением, вызывая в нем отчаянный протест, но эта француженка была просто прелесть. Копна черных кудрявых волос, смуглая шелковистая кожа, чувственные губы… Официант принес легкое сухое вино. Петричкин выпил и захотел еще. Теперь ему все стало нипочем, он махнул официанту и заказал водки. На редкость понятливый официант на аккуратном подносике принес ему охлажденную бутылку «Столичной» и две миниатюрных рюмочки. Француженка отрицательно замотала головой. Петричкин пил, и ему казалось, что он не пьянеет. Француженка улыбалась, показывая ослепительно белые зубы. Ее горячая рука легла на пальцы Павла Ивановича, и он, испугавшись, вдруг почувствовал, что ему никогда еще не было так хорошо, а это и есть то настоящее, чего он так страстно желал в глубине души. Все прежнее было неправдой. Париж шумел и сверкал… Петричкин понял, что официант хочет, чтобы он расплатился с ним. Он резким движением разорвал внутренний карман куртки, нащупал несколько сотенных и широким жестом бросил их на столик. Француженка повлекла его вниз к лифту. Он и сам не заметил, как очутился в машине. Кто-то из шахматистов, задержавшихся на верхней площадке, заметил, как Петричкин с девушкой садились в Рено красного цвета, поджидавший ее у дороги.
Петричкин не понимал, где находится. Он чувствовал дыхание теплой весны, ощущал шум леса и читал стихи Алексея Константиновича Толстого. Этой ночью он был бесшабашно весел и смутно помнил, что происходило с ним. Ему было необыкновенно хорошо с прекрасной женщиной, он чувствовал себя влюбленным и счастливым. На предельной скорости она мчала его куда-то по загородному шоссе. Обоим было весело. Он громко пел: «За Родину Советскую, за честь родного края милого…», помнил, как любил эту песню дед после возвращения из лагеря. Она кивала ему, мурлыча что-то по-французски. Зачем-то понадобилось переменить машину. Она по-детски знаками объяснила ему, что в моторе что-то заурчало. Паспорт оказался только у него. Теперь они мчались на зеленом Шевроле. Эжен предложила ему сигару. Внезапно все поплыло у него перед глазами. Француженка куда-то исчезла, он почувствовал резкую боль в голове и стал задыхаться, услышал резкий скрежет тормозов и провалился куда-то в пропасть. Он почувствовал себя так плохо, что хотел позвать на помощь, но голос пропал, вокруг была темнота, и ему показалось, что незнакомые существа, рассматривавшие его в лупу в аэропорту, зачем-то нечаянно убили его на пороге самого прекрасного…
Петричкин так и не появился на турнире. Шахматисты с пониманием поглядывали на его соседа по номеру, пока наконец не пришло известие о том, что он попал в аварию у городка Сюлли близ моста через Лауру во взятом им напрокат Шевроле. Он вел машину на большой скорости, был сильно пьян и, врезавшись в платан, получил серьезную травму и теперь находится в госпитале в Сюлли. Это известие поразило шахматистов. Никто так и не понял, зачем Петричкину понадобилось Шевроле, тем более, что и водить-то он толком не умел, рассказывал, правда, что имел права, получив их после окончания школы, обучаясь в классе с водительским уклоном.
Павел Иванович открыл глаза и был очень удивлен: белый потолок, белые стены, на тумбочке стакан воды на блюдце, громадное окно и дерево в окне – зеленые листья, похожие на листья каштана на фоне ярко-голубого неба. Он вспомнил о шахматном турнире и резко сел на кровати, но голова очень отяжелела, в глазах потемнело, и все пошло кругом. Петричкин, выругавшись, вынужден был вновь прилечь на белоснежную подушку. Что с ним произошло, он не помнил, он просто был сражен своим состоянием.
– Вот так ерунда, – думалось ему. – Угораздило же меня, где же это я?
В комнату вошла медсестра и спросила его что-то по-французски. Он ничего не понял. На подносе у нее был шприц и все необходимое для укола. Она знаками объяснила ему, что необходим укол, и он не сопротивлялся. Сестра тотчас удалилась, а спустя некоторое время Петричкину полегчало, он смог в конце концов сесть на кровати, но дальше дело не пошло, он был слишком слаб… Сколько он проспал, он понять не мог, но что-то его разбудило, то ли какой-то шорох, то ли необычный аромат. Прямо напротив него сидела очень смуглая кудрявая девушка с блестящими черными глазами. Петричкин смутился. Он смотрел на нее и не узнавал.
– Это я, Эжен, – говорили ее глаза и губы, – я понимаю тебя, учусь на филологическом в университете.
– Откуда ты знаешь меня? – спросил Павел Иванович.
– Я шахматистка, студентка, мы познакомились в кафе на башне, а потом катались по городу. Я изучала русскую шахматную школу. Услышала русскую речь и разговор о шахматах. Мне показалось, что ты самый интересный и умный…
– Тебе это показалось, но мне очень нужно попасть на турнир.
– Турнир уже закончен, – ответила она.
– Почему? Что со мной?
– Мы попали в аварию, ты долго был без сознания, я чувствую себя виноватой, но не волнуйся, я оплачу все расходы. Я очень рада, что ты наконец очнулся. Скоро я перевезу тебя к себе. Мы будем гулять по Люксембургскому саду.
Все это Эжен говорила, смешивая русские и французские слова, но Петричкин прекрасно все понимал. Он был изумлен происходящим, совсем не представлял, как ему надо себя вести.
– Прости за причиненные хлопоты и неудобства, – только и нашелся он, но Эжен не могла понять столь сложных словосочетаний, и он пожалел о них. Вновь вошла медсестра с обедом на подносе, и Эжен попрощалась с ним, но ему не хотелось есть.
– Я буду ждать тебя, – он сам не ожидал от себя такой смелости, она крепко сжала его пальцы. Он лежал на постели, смотрел в окно и не мог поверить, что все это происходит с ним. Куда-то далеко-далеко ушла его прежняя жизнь: родители, хрущевка, жена, ребенок, впереди были неизвестность, предчувствие приятной встречи, хотелось играть в шахматы, но тяжесть в голове не проходила, он съел несколько ложек безвкусного бульона, и вновь забылся спокойным сном.
И впрямь через некоторое время Эжен забрала его к себе в квартирку с библиотекой и кабинетом, окнами, выходившими на Люксембургский сад. Вначале их можно было увидеть прогуливающимися по парку, у них появились свои излюбленные стульчики-лавочки недалеко от бюста Бальзака, но все чаще Петричкина можно было встретить за столиком в соседнем кафе, где он пристрастился играть в шахматы. Эжен училась в университете, и это отнимало у нее много времени. Он долго не мог оправиться от травм. С трудом ступал на правую ногу, у него повисла правая рука, но постепенно он восстанавливался, временами уходя в себя: анализировал турнирные шахматные партии. Вечерами они играли с Эжен, он готовил ее к турниру на первенство университетов. Встреча двух миров, сплетение двух разных менталитетов, темпераментов должны были породить вундеркинда, вскоре в турнирных играх ни Петричкину, ни Эжен не было равных. Петричкин все больше стал выступать в коммерческих открытых турнирах, опенах, занимая первые или призовые места. Он сам не узнавал себя: с легкостью преодолевал сложные многопрофильные позиции, маневрировал, импровизировал, умело выстраивал игру от противника. Только в самом себе разобраться никак не мог. Здоровье его улучшалось, он чувствовал в себе невероятный прилив сил, но вот о возвращении думать ему никак не хотелось. Вот так взять и разом все вычеркнуть прежнее – и впрямь он как будто заново родился, вернее возрождался. С другой стороны, время было уж очень интересным после перестройки в России. Поворот событий мог быть любой: удержится ли новая власть, хотелось быть в курсе происходящего не понаслышке, а пока старая жизнь рушилась, родители могли потерять работу в любой момент… Он думал о «невозвращенцах-шахматистах», хотя перестройка все меняла. Вспоминалась фотография дедушки у барака на Соловках, который после возвращения, уже при Хрущеве, о своих злоключениях разговаривал с его отцом только шепотом, чтобы он, ребенок, спаси Бог, не услышал «лишнего». Другой его дед по матери во время войны попал в плен под Вязьмой и по возвращении тоже оказался в лагере. Это был генетический страх, который он гнал от себя, потому что ему еще никогда не было так хорошо, как здесь, потому что ему хотелось этой свободы, когда он мог сам решать, в каком турнире ему играть, как распоряжаться своей жизнью. Ощущение этой раздвоенности подсознательно мучило его, он гнал от себя неприятные мысли и какого-либо решения принять боялся… Да и с Эжен было все не так просто. Вряд ли бы ее отец, один из учредителей крупного международного банка, потомок алжирца, одобрил бы выбор дочери, тем более, что прочил ее за сына другого соучредителя, с которым Эжен уже была помолвлена. Да и потом, что для Эжен означало ослушаться отца? Да и зачем он, Петричкин, будет портить ей жизнь. Пройдет увлечение, впрочем, об этом он не хотел много размышлять, все же в каком-то смысле он был фаталистом, верил в судьбу…
Стояло солнечное летнее утро. Эжен была в университете. Петричкин сидел у небольшого столика на кухне и пил кофе. Из окна хорошо прослеживалась аллейка сада. Он внимательно следил за игрой света и тени от солнечного луча, пробивавшегося сквозь листву платана. Листья, колеблющиеся от ветра, изменяли конфигурацию узора, в котором можно было уловить то тень рыбы с плавником, то распластавшуюся черепаху. Внезапно конфигурация изменилась, обрисовав вытянутый профиль, который кого-то напоминал, и он отчетливо вспомнил Эдика, человека, когда-то приставленного к их группе, от чьего зоркого взгляда невозможно было укрыться. Он следил за всеми и за каждым в отдельности. А сможет ли он играть в следующем турнире в Берлине, о котором договорился еще в Москве? Ведь ему, пожалуй, не ускользнуть вновь от цепких глаз и рук компетентных товарищей, а он так хотел участвовать в этом турнире, где собиралась такая сильная компания игроков, и он ощутил какое-то странное волнение… Возможно, в этом турнире таких товарищей уже не будет, хотя в это так трудно поверить. Затем мысли его переключились на другое. Перед глазами возникли родители: мать, долгие годы работавшая в министерстве, отец – сотрудник НИИ, кандидат наук в минералогии. Он вспомнил, как в детстве часто рассматривал папину коллекцию минералов. Оба пожилые, предпенсионного возраста. Его невозвращение отразится на их жизни. О жене и ребенке он даже подумать боялся. Он бросил взгляд на стопку газет на тумбочке. Ощущение нестабильности чувствовалось в России, и ему вспомнилась студенческая физтеховская пьеса «Закат солнца вручную». Мысль вновь перескочила. Все же ему мучительно хотелось сразиться в берлинском турнире. Он не мог отказаться от адреналина, когда все ощущения удесятерялись, по позвоночнику струйкой катил пот, принятие решений концентрировалось в минуты, и он ощущал необыкновенный прилив сил.
График берлинского турнира был заранее жестко распланирован, практически не предполагая для игроков свободного времени. Встреча со старыми приятелями-шахматистами была приятна Петричкину. Лопырев, его друг, с которым познакомились еще в детстве у Юркова, при встрече похлопывал его по плечу, заглядывал в глаза Шахову, так за глаза шахматисты называли Петричкина, пытаясь понять, что же случилось с таким понятным прежде Павлушей, которого он столько лет знал. Однако и сам Петричкин-Шахов ничего толком объяснить не умел… Лопырев передал Петричкину письма из дома, от родителей и от жены. Он с волнением прочитал письмо от отца, родители никак не могли понять, что с ним произошло, как он чувствует себя, почему так долго не дает о себе знать. От жены пришло плаксивое письмо с фотографией малютки, сидящей на подушке, с большим бантом в жиденьких волосках. Сморщенное личико расправилось, но в глазках не было осмысленного выражения. Ему вдруг стало очень жаль малышку. Это письмо было ему неприятно.
Внутренне Петричкин готов был к турниру, где разыгрывался приличный приз, за который ему хотелось побороться. Первый противник был норвежец, Петричкин не считал его особенно сильным игроком, но что-то рассредоточило его внимание, возможно, впечатление от писем родителей и жены. И игру свели вничью, что огорчило Павла Ивановича. Следующий противник был немец, известный мастер позиционной игры Альтман. Петричкин знал его игру и понимал, что здесь можно ожидать любого подвоха. Разыгрывалась венгерская защита, черными играл Петричкин. На выходе из дебюта он допустил ошибку, соперник провел красивую комбинацию, но Петричкин вовремя спохватился, и игра вновь закончилась ничьей. Однако, у Павла Ивановича осталось ощущение, что он не нашел нужного хода, чтобы переломить ее. Он мучительно искал его. Какой внутренний подтекст должен был он услышать? Внезапно среди ночи он проснулся, ему показалось, что нужный ход найден. Он подошел к окну, одинокий фонарь освещал маленькую фигурку Эжен.
– Все не то, – подумал он. Нужно было бы усыпить бдительность противника, пожертвовать пешкой и ладьей, напасть на коня. Он непременно надеялся сразиться с Альтманом в будущем. Дальнейшая игра была для него не интересна и скучна. Первый приз был утерян, но второй достался ему. Теперь ему грезился следующий матч.
Петричкин летел в Москву на очередной турнир с обещанием Эжен вернуться свободным, но думать мог только о предстоящем турнире. Размышлял об известных партиях предстоящих противников. Больше всего ему не хотелось бы встретиться с Эйхельманом. Непредсказуемость, фиглярство и постоянное шмыганье носом приводили его в бешенство. А вот с японцами помериться силами было бы интересно. Однако с первым по жеребьевке он играл с датчанином Густаффсоном. Он не поехал домой с ночного рейса, а договорился переночевать у Лопырева. Тот жил недалеко от ЦШК. Решил разузнать через школьного товарища Славки, как дела дома, не тревожить себя разговорами с родителями, хотел выспаться перед турниром. Лопырев жил с матерью, премилой старушенцией, гостеприимной и веселой. Он рассказывал о французском турнире, на столе пускал пар старинный самовар. Дом был гостеприимным и уютным. Лопырев уступил Петричкину свою кровать, решив расположиться на диване. Перед сном решили сгонять партеечку, так что оба заснули поздно.
Ночью во сне Петричкин разыгрывал с Густаффсоном гамбит Эванса. Играл за белых. Этот «неувядаемый гамбит» был его коньком с давних пор. Эндшпиль получился с тремя активными легкими фигурами у белых и двумя неразвитыми ладьями у черных, что и привело к закономерной победе белых. Утром он был бодр и совершенно точно знал, что ждет его впереди. Все начало складываться неплохо, и он одержал победу, но следующим же вечером ему позвонил Славка и рассказал, что его, Петричкина, жена уже давно встречается с барменом кафе «Чайка» из соседнего дома. Это как-то странно подействовало на него. Ночью Павел Иванович, якобы, проснулся и очень удивился: рядом с ним лежала его жена с большим бантом на голове в неестественной позе и спала. Он уже хотел было ее растормошить, но что-то большое зашевелилось с другой стороны. Петричкин почему-то очень испугался, боясь повернуться. Сделав усилие над собой, он резко повернулся на другой бок. Прямо в упор на него смотрели горящие глаза Эжен, но это была не она, лицо было сморщенным и старым, что заставило его содрогнуться. Петричкин был готов провалиться сквозь землю, но усилием воли он сбросил с себя это наваждение и окончательно проснулся. На соседнем диване храпел Лопырев.

