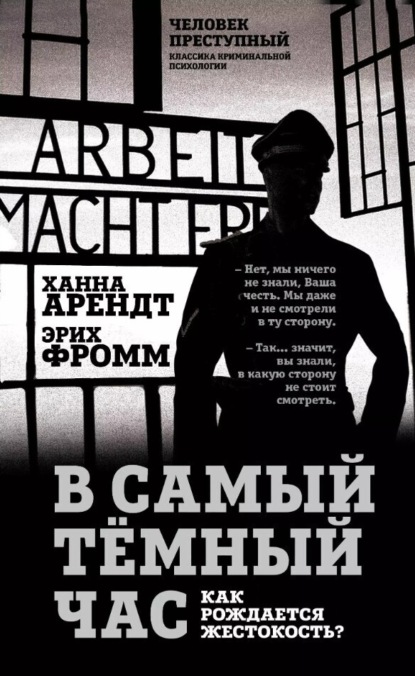
Полная версия:
В самый темный час. Как рождается жестокость?
Необходимо было обрисовать хотя бы эти общие программные рамки, поскольку лишь в таком плане имеет смысл ответ на «германскую проблему». Здесь бросается в глаза отсутствие ванситтартизма8 любого рода. Французский офицер, один из тех, кто с помощью германского подполья каждый день организует побеги из нацистских концлагерей, в этом отношении проводит различие между заключенными и народом своей страны, который ненавидит немцев больше, чем заключенные. «Наша ненависть, страстная ненависть заключенных, направлена на коллаборационистов, спекулянтов и им подобных, на всех, кто помогает врагу – и нас три миллиона…».
Польская социалистическая газета Freedom предостерегает от жажды мести, потому что она «легко может превратиться в желание господствовать над другими нациями и тем самым, после победы над нацизмом, сами его методы и идеи могут вновь восторжествовать». Очень похожие заявления делались и движениями во всех остальных странах. Этот страх впасть в некоторую разновидность расизма после разгрома его германской версии стоит за общим отказом от идеи расчленения Германии. В этом, как и во многих других вопросах, между движениями подполья и правительствами в изгнании отсутствует всякое согласие. Так, де Голль требовал аннексии Рейнской области, но сменил свой подход на противоположный несколько недель спустя, когда, вступив в Париж после его освобождения, заявил, что все, чего хочет Франция, это активного участия в оккупации Рейнской области.
Однако голландцы, поляки, норвежцы и французы все как один поддерживают программу национализации германской тяжелой промышленности, ликвидации юнкеров и промышленников рак общественных классов, полного разоружения р контроля над промышленным производством. Некоторые ожидают создания германской федеративной администрации. Французская Социалистическая партия провозгласила, что эта программа «должна быть реализована на основе тесного, братского сотрудничества с германскими демократами»; и все программы завершаются предостережениями, что обречь «семьдесят миллионов человек в центре Европы на бедственное экономическое положение» (норвежцы) значит извратить конечную цель «принятия Германии в сообщество европейских наций и плановую европейскую экономику» (голландцы).
Мыслить так, как европейское подполье, означает понимать, что активно обсуждаемые альтернативы мягкого или жесткого мира для Германии имеют мало отношения к проблеме ее будущего суверенитета. Так, голландцы заявляют, что «проблема равенства прав должна заключаться не в восстановлении суверенных прав побежденного государства, но в предоставлении ему ограниченного влияния в Европейском совете или Федерации». Французы, составляя планы на тот период, когда неевропейские оккупационные армии покинут континент, и снова на первый план выйдут чисто европейские проблемы, предупреждают, что «существенные ограничения германского суверенитета можно легко представить лишь в том случае, если все государства подобным же образом согласятся пойти на значительное ограничение своего суверенитета».
Задолго до того, как стало известно о «плане Моргентау», подпольные движения уже отвергали подобные идеи уничтожения германской промышленности. Это неприятие столь всеобще, что было бы избыточным цитировать конкретные источники. Причины очевидны: огромный и полностью обоснованный страх, что половина Европы будет голодать, если германская промышленность прекратит работу.
Вместо уничтожения этой промышленности предлагается контроль над ней, не столько со стороны какой-то конкретной страны или народа, сколько со стороны Европейского консультативного совета, который, вместе с представителями Германии, принял бы на себя ответственность за управление ею с целью стимулирования производства и управления распределением. Среди экономических планов европейского использования германской индустрии наиболее замечательна французская программа, которая предварительно обсуждалась еще до освобождения. Эта программа призывает к объединению в одну экономическую систему, без изменения национальных границ, промышленных регионов западной Германии – Рура, Саара, Рейнской области и Вестфалии с индустриальными регионами восточной Франции и Бельгии.
Но эта готовность прийти к соглашению относительно будущего Германии не должна объясняться исключительно подсчетами показателей экономического благополучия или даже естественным ощущением того, что, что бы ни решили союзные державы, немцы останутся в Европе навсегда. Также необходимо принимать во внимание то, что европейское Сопротивление во многих случаях сражалось плечом к плечу с германскими антифашистами и дезертирами из рейхсвера. Сопротивление знает о существовании германского подполья, ибо миллионы иностранных рабочих и военнопленных Третьего рейха имели широкие возможности воспользоваться его помощью. Французский офицер, рассказывая о том, как французские заключенные в Германии устанавливали связи с французами, угнанными на подневольные работы, и с подпольем в самой Франции, говорит о германском подполье как о чем-то очевидном, подчеркивая, что такие контакты были бы невозможны «без активной помощи немецких солдат и рабочих». Он также говорит, что оставил «много хороших друзей в Германии перед тем, как мы перерезали колючую проволоку». Еще более поразительно обнародование им того, что германское подполье рассчитывает на помощь французов в Германии «в момент окончательного удара», и того, что организованное сотрудничество между двумя группами привело к информированию французов о местах складирования оружия немецкого подполья.
Эти детали цитируются для того, чтобы разъяснить, какой реальный опыт лежит в основе программ Сопротивления в отношении Германии. Этот опыт, в свою очередь, сделал более обоснованным то отношение, что на протяжении уже нескольких лет характерно для европейских антифашистов и которое недавно было определено Жоржем Бернаносом как: «Надежда людей, рассеянных по всей Европе, разделенных границами и языками и имеющих мало общего друг с другом кроме опыта риска и привычки не поддаваться угрозе».
4Возвращение правительств в изгнании может быстро положить конец этому новому чувству европейской солидарности, ибо само существование этих правительств зависит от восстановления статус-кво. Отсюда их застарелое стремление к ослаблению и дроблению движения Сопротивления, чтобы не допустить политического ренессанса европейских народов.
Реставрация в Европе сегодня предстает в виде трех базовых концепций. Во-первых, это возникшая там концепция коллективной безопасности, которая на самом деле не является новой, но заимствована у счастливых времен Священного союза; она была возрождена после предыдущей войны в надежде на то, что позволит сдержать националистические устремления и агрессию. Если эта система рассыпалась на части, то это произошло не из-за такой агрессии, а из-за вмешательства идеологических факторов. Так, к примеру, Польша, хотя и оказалась под угрозой со стороны Германии, отвергла помощь Красной армии, несмотря на то что в ее случае коллективная безопасность вряд ли могла быть действенной без такой помощи. Стратегической безопасностью границ пожертвовали потому, что главный агрессор – Германия – была воплощением борьбы против большевизма. Ясно, что система коллективной безопасности может быть восстановлена только на основе исходного допущения о том, что препятствующих этому идеологических факторов больше нет. Однако такие допущения иллюзорны.
Для того чтобы предотвратить столкновения между идеологическими силами, имеющимися во всех нациях, была введена вторая политическая мера – четкое разграничение сфер интересов. Эта политика унаследована от колониальных империалистических методов, которые сейчас бьют рикошетом по Европе. Однако вряд ли кто-то преуспеет в обращении с европейцами как с населением колоний, когда даже колониальные страны явно находятся на пути к независимости. Еще менее реалистична надежда на то, что на столь малой и густонаселенной территории, как Европа, окажется возможным возведение стен, которые отделят нацию от нации и предотвратят взаимодействие идеологических сил.
В настоящее время мы видим воскрешение старого доброго двустороннего союза, который, как кажется, становится излюбленным политическим инструментом Кремля. Этот последний элемент, заимствованный из обширного арсенала силовой политики, имеет только один смысл, и это повторное использование политических инструментов девятнадцатого века, чья неэффективность была обнаружена и обличена после окончания последней войны. В действительности окончательным итогом таких двусторонних соглашений становится то, что более сильный партнер в любом так называемом союзе господствует над более слабым политически и идеологически. Правительства в изгнании, заинтересованные только в реставрации как таковой, жалким образом колеблются между этими альтернативами и готовы принять почти все, что предлагают члены Большой тройки – коллективную безопасность, сферу интересов или союз. Следует признать, что в числе этих лидеров де Голль занимает особое место. В отличие от других, он представляет не вчерашние силы, а, скорее, является единственным напоминанием о силах позавчерашних – того времени, которое, при всех его недостатках, было намного более благоприятным для реализации человеческих целей, чем недавнее прошлое. Иными словами, он один по-настоящему представляет патриотизм и национализм в старом смысле. Когда его бывшие товарищи во французской армии и «Аксьон Франсез» оказались предателями, пацифизм охватил Францию подобно лихорадке, а представители правящих классов изо всех сил старались стать коллаборационистами, он даже не понял, что происходит. В некотором смысле, ему повезло, что он не мог поверить своим глазам, – то есть поверить в то, что французы не хотят национальной войны с Германией. Все, что он сделал после этого, он сделал во имя нации, и его патриотизм так глубоко коренится в воле народа, что Сопротивление, то есть народ, смог поддержать его политику и повлиять на нее. Де Голль, единственный оставшийся в Европе национальный политик, также единственный, кто искренне утверждает, что «германская проблема – это центр всего». Для него война на самом деле является национальным, а не идеологическим конфликтом. И он хочет для Франции как можно большую долю в победе над Германией. Его стремление к аннексии сдерживается Сопротивлением; новое предложение, предположительно принятое Сталиным, которое предусматривает создание отдельного немецкого государства в Рейнской области под контролем союзников или Франции, говорит о компромиссе между его прежними аннексионистскими планами и надеждами Сопротивления на федеративную Германию и контролируемую Европой германскую экономику.
Реставрация очень логично началась с возвращения к бесконечным спорам о границах, спорам, в которых жизненно заинтересованы лишь немногие старорежимные националисты. Несмотря на мощные протесты движений подполья своих стран, все правительства в изгнании выдвинули территориальные претензии. Эти претензии, поддерживаемые и, возможно, вдохновляемые Лондоном, могут быть удовлетворены только за счет побежденных, и если в перспективе приобретения новых территорий немного радости, то это потому, что, по-видимому, никто не знает, как решить неразрывно связанные с этим проблемы населения этих территорий. Договоры о меньшинствах, от которых ожидали чудес после предыдущей войны, сегодня находятся в полном пренебрежении, хотя никто не верит и в единственную альтернативу, каковой является ассимиляция. Сегодня надеются решить эту проблему путем перемещения населения: чехи были первыми, кто объявил о своей решимости ликвидировать договоры о меньшинствах и депортировать два миллиона немцев в Рейх. Другие правительства в изгнании последовали этому примеру и изложили аналогичные планы для немцев, находящихся на уступаемых другим странам территориях— многих миллионов немцев.
Но если такие перемещения населения будут действительно иметь место, за ними последует не только продолжение хаоса на неопределенное время, но, возможно, и нечто еще более зловещее. Уступленные территории окажутся малонаселенными, а соседи Германии не смогут должным образом заселить их и использовать с выгодой имеющиеся ресурсы. Это в свою очередь поведет либо к реэмиграции немецкой рабочей силы и тем самым к воспроизводству старых опасностей, либо к ситуации, когда перенаселенная страна с высококвалифицированной рабочей силой и высокоразвитой техникой просто будет вынуждена искать новые методы производства. Результат такого «наказания» окажется тем же, что и у Версальского договора, о котором также думали, что это надежный инструмент сокрушения германской экономической мощи, но который сам оказался причиной крайней рационализации и поразительного роста германского промышленного потенциала. Поскольку в наше время рабочая сила намного важнее, чем территории, а технические умения в сочетании с высоким уровнем научных исследований способны принести больше, чем сырье, мы вполне можем своими руками начать создавать гигантскую пороховую бочку в центре Европы, взрывоопасный потенциал которой удивит завтрашних политиков так же, как подъем побежденной Германии удивил политиков вчерашних.
И наконец, план Моргентау, по-видимому, представляет окончательное решение. Но вряд ли можно полагаться на то, что этот план превратит Германию в нацию мелких фермеров – поскольку ни одна держава не возьмется за то, чтобы уничтожить около тридцати миллионов немцев. Любая серьезная попытка сделать это, вероятнее всего, породит ту самую «революционную ситуацию», которую желающие реставрации боятся более всего.
Таким образом, реставрация не обещает ничего. Если она окажется успешной, процессы последних тридцати лет могут начаться снова, на этот раз с намного большей скоростью. Ибо реставрация должна начаться именно с реставрации «германской проблемы»! Порочный круг, в котором вращаются все дискуссии о «германской проблеме», ясно показывает утопический характер «реализма» и силовой политики в их применении к реальным вопросам нашего времени. Единственной альтернативой этим устаревшим методам, которые не могут даже сохранить мир, не говоря уже о том, чтобы гарантировать свободу, является курс, принятый европейским Сопротивлением.
Организованная вина и всеобщая ответственность9
IЧем серьезнее военные поражения вермахта на полях сражений, тем более очевидной становится победа нацистов в политической борьбе, которую так часто ошибочно считают простой пропагандой. Главный тезис нацистской политической стратегии состоит в том, что нет никакой разницы между нацистами и немцами, что народ един в своей поддержке правительства, что все надежды союзников найти часть народа, не зараженную идеологически, как и все призывы к демократической Германии будущего, являются чистыми иллюзиями. Из этого следует, конечно, то, что нет никакого различия в вопросе ответственности, что немецкие антифашисты пострадают от поражения не меньше, чем немецкие фашисты, и что союзники проводили такие различия в начале войны только в пропагандистских целях. Еще одно следствие состоит в том, что постановления союзников относительно наказания военных преступников окажутся пустыми угрозами, потому что не удастся найти никого, к кому нельзя было бы применить определение военного преступника.
То, что такие заявления не являются простой пропагандой, а подтверждаются вполне реальными и страшными фактами, мы узнали за последние семь лет. Террористические подразделения, которые сначала были строго отделены от массы народа и принимали только лиц с уголовным прошлым или доказавших свою готовность стать преступниками, с тех пор постоянно росли. Запрет на членство в партии военных был аннулирован общим приказом, подчинившим всех солдат партии. Хотя эти преступления, которые с момента установления нацистского режима всегда были частью повседневной рутины концентрационных лагерей, поначалу были ревностно оберегаемой монополией СС и гестапо, сегодня обязанности по исполнению массовых убийств могут быть возложены на военных. Эти преступления сначала держались в секрете всеми возможными способами, и любая их огласка наказывалась как злостная пропаганда. Позднее, однако, сведения об этих преступлениях стали распространяться через слухи, причем по инициативе самих нацистов, а сегодня о них говорят открыто, называя «мерами ликвидации», которые призваны заставить «соотечественников» – тех, что из-за организационных трудностей не удалось включить в «народное единство» преступления, – по крайней мере нести бремя соучастия и знания о происходящем. Эта тактика, поскольку союзники отказались проводить различие между немцами и нацистами, привела к победе нацистов. Чтобы оценить решающее изменение политических условий в Германии после проигранной битвы за Британию, необходимо отметить, что до войны и даже до первых военных поражений лишь относительно небольшие группы активных нацистов, но не те, кто им сочувствовал, и столь же небольшое число активных антифашистов действительно знали о происходящем. Все остальные, не важно немцы или нет, естественным образом были склонны верить официальному, всеми признанному правительству, а не обвинениям беженцев, которые, будучи евреями или социалистами, в любом случае вызывали подозрения. Но даже из тех беженцев лишь относительно небольшая доля знала всю правду, и еще меньшая часть готова была нести бремя непопулярности, рассказывая правду.
Пока нацисты ожидали, что они одержат победу, их террористические подразделения были строго отделены от народа, а во время войны – от армии. Армия не использовалась для совершения злодеяний, и войска СС набирались из «подготовленных» людей независимо от их национальности. Если бы в Европе удалось установить задуманный новый порядок, мы стали бы свидетелями межъевропейской организации террора под немецким руководством. Террор осуществлялся бы представителями всех европейских национальностей, за исключением евреев, но был бы организован в соответствии с расовой классификацией различных стран. Немецкий народ, конечно, от него не был бы избавлен. Гиммлер всегда считал, что власть в Европе должна находиться в руках расовой элиты, собранной в войсках СС, и не иметь национальных связей.
Лишь поражения вынудили нацистов отказаться от этой идеи и для вида вернуться к старым националистическим лозунгам. Частью этого поворота было активное отождествление всего немецкого народа с нацистами. Шансы национал-социализма на организацию подпольного движения в будущем зависят от того, что никто больше не будет способен узнать, кто нацист, а кто нет, так как не будет больше никаких видимых признаков различия, и, прежде всего, от убежденности держав-победительниц, что между немцами на самом деле нет никакого различия. Чтобы это произошло, необходим усиленный террор, после которого в живых не останется ни одного человека, чье прошлое или репутация позволили бы назвать его антифашистом. В первые годы войны режим был удивительно «великодушным» к своим оппонентам, при условии, что они сидели спокойно. Но в последнее время было казнено бесчисленное множество людей, даже несмотря на то, что из-за отсутствия на протяжении многих лет всякой свободы передвижения они не могли представлять какую-то прямую угрозу для режима. С другой стороны, мудро предвидя, что, несмотря на все меры предосторожности, союзники все еще могут найти в каждом городе несколько сотен людей с безупречным антифашистским прошлым – на основании свидетельств бывших военнопленных и иностранных рабочих, а также сведений о тюремном заключении или пребывании в концлагерях, – нацисты уже обеспечили своих людей соответствующими документами и свидетельствами, что делает эти критерии бесполезными. Таким образом, в случае заключенных концентрационных лагерей (численность которых никто точно не знает, но, по оценкам, она составляет несколько миллионов человек), нацисты могут спокойно их ликвидировать или отпустить: в том невероятном случае, если они все же выживут (резня, вроде той, что произошла в Бухенвальде, не является наказуемой в соответствии с определением военного преступления), их все равно невозможно будет безошибочно опознать.
Определить, кто в Германии нацист, а кто анти-нацист, может лишь тот, кто знает секреты человеческого сердца, куда человеческому взгляду не проникнуть. В любом случае те, кто сегодня активно организует антифашистское подполье в Германии, встретят вскоре свою кончину, если они не смогут действовать и говорить точь-в-точь как нацисты. В стране, где человек, не сумевший убить по приказу или не готов стать пособником убийц, сразу же привлекает к себе внимание, это не простая задача. Самый радикальный лозунг, который появился у союзников во время этой войны («хороший немец – мертвый немец»), имеет прочную основу в реальности: единственный способ определить противника нацистов это увидеть, когда нацисты повесят его. Никакого другого надежного признака не существует.
IIТаковы реальные политические условия, которые лежат в основе утверждения о коллективной вине немецкого народа. Они являются следствием политики, которая в самом глубоком смысле а- и антинациональна; которая совершенно определенна в том, что немецкий народ существует, только когда он находится во власти своих нынешних правителей; и которая посчитает своей величайшей победой, если поражение нацистов приведет к физическому уничтожению немецкого народа. Тоталитарная политика, которая полностью разрушила нейтральную территорию, где обычно протекает повседневная жизнь людей, добилась того, что существование каждого человека в Германии зависит от того, что он либо совершает преступления, либо соучаствует в них. Успех нацистской пропаганды в союзнических странах, выражающийся в том, что обычно называют ванситтаризмом, имеет второстепенное значение. Он представляет продукт обычной военной пропаганды и нечто, совершенно не связанное со специфическим современным политическим феноменом, описанным выше. Все документы и псевдоисторические свидетельства этой тенденции звучат как относительно невинный плагиат французской литературы времен предыдущей войны – и совсем не важно, что некоторые из этих авторов, забивших двадцать пять лет назад все печатные станки своими атаками на «вероломный Альбион», теперь предоставили свой опыт в распоряжение союзников.
Тем не менее даже дискуссии, которые велись с самыми лучшими намерениями между защитниками «хороших» немцев и обвинителями «плохих», не только упускают суть вопроса, но также явно не осознают масштабы катастрофы. Они либо скатываются к тривиальным общим замечаниям о хороших и плохих людях и к фантастической переоценке силы «воспитания», либо просто принимают перевернутую версию нацистской расовой теории. Во всем этом есть определенная опасность, потому что после знаменитого заявления Черчилля10 союзники отказались от участия в идеологической войне и тем самым невольно дали преимущество нацистам, которые, без оглядки на Черчилля, организуют их поражение идеологически, и сделали вероятным сохранение всех расовых теорий.
Истинная проблема, однако, не в том, чтобы доказывать самоочевидное, то есть что немцы не были потенциальными нацистами со времен Тацита, или невозможное, то есть что все немцы глубоко внутри придерживаются нацистских взглядов, а в том, чтобы задуматься, как вести себя и как поступать с народом, в котором границы, отделяющие преступников от нормальных людей, виновных от невиновных, стерты настолько, что никто в Германии не сможет сказать, с кем он имеет дело – с тайным героем или с бывшим массовым убийцей. В этой ситуации нам не поможет ни определение ответственных, ни наказание «военных преступников». Такие определения, по самой своей природе, могут применяться только к тем, кто не только взял на себя ответственность, но и создал весь этот ад – и все же странным образом их имена до сих пор отсутствуют в списках военных преступников. Число же тех, кто несет ответственность и вину, будет относительно небольшим. Есть немало тех, кто разделяет ответственность без каких-либо видимых доказательств вины, и еще больше тех, кто оказался виновен, не будучи ни в малейшей степени ответственным. К ответственным в более широком смысле следует отнести всех тех, кто продолжал симпатизировать Гитлеру, пока это было возможно, кто способствовал его приходу к власти и кто приветствовал его и в Германии, и в других европейских странах. Кто посмеет клеймить всех этих Дам и господ из высшего общества как военных преступников? Они и правда не заслуживают такого определения. Бесспорно, они доказали свою неспособность судить о современных политических организациях – одни потому, что считали все принципы в политике нравоучительным вздором, другие потому, что испытывали романтическое пристрастие к бандитам, которых они перепутали с «пиратами» прошлых времен. Тем не менее эти люди, которые были ответственны за преступления Гитлера в более широком смысле, не несут никакой вины в строгом смысле этого слова. Эти первые сообщники нацистов и их лучшие пособники действительно не ведали, что творят и с кем имеют дело.



