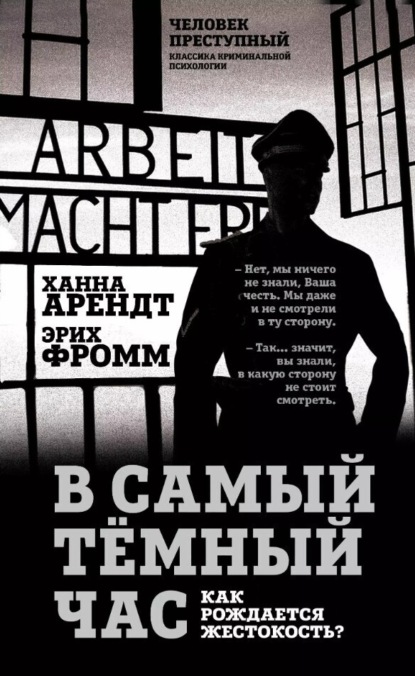
Полная версия:
В самый темный час. Как рождается жестокость?
Это опасная ситуация, но сама по себе она не является наихудшей из возможных. Реальную проблему создают сами партийные машины. Ныне существующие партии являются продолжением догитлеровских партий, то есть тех партий, которые, как обнаружил Гитлер, оказалось удивительно легко уничтожить. Они во многих случаях управляются теми же самыми людьми, и в них господствуют старые идеологии и старые тактики. Однако только тактики некоторым образом сохранили свою жизнеспособность; идеологии сохраняются просто во имя традиции и потому, что немецкой партии обязательно нужно Weltanschauung3. Нельзя даже сказать, что идеологии сохранились из-за отсутствия чего-то лучшего; ситуация выглядит так, как будто немцы, после своего опыта с нацистской идеологией, стали убеждены, что почти все сойдет. Партийные машины в первую очередь заинтересованы в обеспечении своих членов рабочими местами и поощрениями, и в этом они всемогущи. Это означает, что они имеют тенденцию привлекать самые приспособленческие элементы населения. Будучи далекими от того, чтобы поощрять какого-либо рода инициативу, они боятся молодых людей с новыми идеями. Короче говоря, они возродились в старческой дряхлости. Вследствие этого, немногие имеющиеся проявления интереса к политике и дискуссии проходят в небольших кружках вне партий и общественных институтов. Каждая из этих малых групп, из-за политического вакуума и общего разложения общественной жизни вокруг них, является потенциальным ядром нового движения; ибо партии не только не смогли получить поддержку германской интеллигенции, они также убедили массы в том, что не представляют их интересы.
Эта меланхолическая история послевоенной Германии не является историей упущенных возможностей. При нашей готовности найти определенного виновника и поддающиеся определению ошибки мы склонны упускать из виду более фундаментальные уроки, которым эта история может нас научить. Когда все сказано, остается двоякий вопрос: что можно разумно ожидать от народа после двенадцати лет тоталитарного правления? Чего можно разумно ожидать от оккупации, перед которой ставят невыполнимую задачу вновь поставить на ноги народ, лишенный всякой опоры?
Но было бы хорошо запомнить и попытаться понять опыт оккупации Германии, ибо скорее всего при нашей жизни мы увидим его повторившимся в гигантских масштабах. К сожалению, освобождение народа от тоталитаризма вряд ли случится всего лишь из-за «краха коммуникаций и централизованной власти [который] вполне может позволить храбрым народам России освободиться от тирании, намного худшей, чем царская», как это сформулировал Черчилль в своей недавней речи на ассамблее Совета Европы. Пример Германии показывает, что помощь извне вряд ли создаст свободные местные силы самопомощи и что тоталитарное правление есть нечто большее, чем просто наихудший вид тирании. Тоталитаризм уничтожает корни.
В политическом плане нынешнее положение Германии больше служит наглядным уроком о последствиях тоталитаризма, чем демонстрацией так называемой германской проблемы. Эта проблема, как и все другие европейские проблемы, может быть решена только в федеративной Европе; но даже такое решение кажется не очень подходящим ввиду неизбежного политического кризиса предстоящих лет. Ни возрожденная, ни невозрожденная Германия не будет играть в ней большую роль. И это осознание итоговой тщетности любой своей политической инициативы в предстоящей борьбе является не самым слабым фактором нежелания немцев взглянуть в лицо реалиям своей разрушенной страны.
Подходы к «германской проблеме»4
1«Германская проблема» в том виде, в каком о ней говорят сегодня, восстала из прошлого, и если сейчас ее преподносят просто как проблему германской агрессии, то это из-за хрупких надежд на реставрацию статус-кво в Европе. Чтобы достичь этого перед лицом гражданской войны, охватившей континент, казалось необходимым сначала «вернуть» понимание войны к тому смыслу, который вкладывался в это слово в XIX в., – то есть конфликта, в котором страны, а не движения, народы, а не правительства терпят поражения и одерживают победы.
Поэтому литература по «германской проблеме» читается по большей части как переработанное издание пропаганды военного времени, которая всего лишь украшала официальную точку зрения надлежащей исторической эрудицией и на самом деле была не хуже и не лучше своего германского аналога. После прекращения боевых действий труды джентльменов-эрудитов с обеих сторон были благополучно преданы забвению. Единственная интересная сторона этой литературы – та готовность, с которой всемирно известные ученые и писатели предлагали свои услуги, – не для того, чтобы спасти свои страны, рискуя собственными жизнями, а для того, чтобы служить своим правительствам с полным пренебрежением к истине. Единственная разница между пропагандистами двух ^яровых войн заключается в том, что сейчас многие из прежних глашатаев германского шовинизма предоставили свои услуги союзным державам в качестве «экспертов» по Германии, нисколько не утратив при этом своего рвения и угодничества.
Эти эксперты по «германской проблеме», однако, являются единственным наследием прошлой войны. Но в то время, как их приспособляемость, их готовность к услужению, их страх перед интеллектуальной и моральной ответственностью остаются постоянными, их политическая роль изменилась. Во время Первой мировой войны, войны, которая не была идеологической по своему характеру, стратегии политической войны еще не были открыты, ее пропагандисты занимались немногим более чем укреплением боевого духа, пробуждая или выражая национальное чувство народа. Возможно, они потерпели неудачу даже в этом, если судить по вполне общему пренебрежению, с которым к ним относились воюющие стороны; но, помимо этого, они явно были совершенно малозначительны. У них не было никакого права голоса в политическом процессе, и они не были выразителями политического курса соответствующих правительств.
Сегодня, однако, пропаганда как таковая больше не эффективна, особенно если она формулируется в националистической и военной, а не идеологической или политической терминологии. К примеру, бросается в глаза отсутствие ненависти. Поэтому единственный пропагандистский результат возрождения «германской проблемы» негативный: многие, научившиеся пренебрегать рассказами о зверствах в ходе войны, просто отказываются верить в то, что на сей раз является ужасной реальностью, потому что это преподносится в старой форме государственной пропаганды. Разговоры о «вечной Германии» и ее вечных преступлениях служат только тому, чтобы прикрыть нацистскую Германию и ее нынешние преступления занавесом скептицизма. Взять хотя бы один пример, когда в 1939 г. французское правительство вынуло из запасников лозунги Первой мировой войны и жупел германского «национального характера», единственным видимым эффектом стало неверие в ужасы нацистов. Так было и по всей Европе.
Но хотя пропаганда и утратила в значительной степени свою способность вдохновлять, она приобрела новую политическую функцию. Она стала формой политической войны и используется для подготовки общественного мнения к некоторым политическим шагам. Поэтому когда «германская проблема» описывается при помощи идеи, что источником международного конфликта являются злодеяния Германии (или Японии), это ведет к сокрытию реальных политических проблем. Посредством отождествления фашизма с национальным характером и историей Германии людям внушают ложную веру в то, что разгром Германии равнозначен искоренению фашизма. Так становится возможным закрыть глаза на европейский кризис, который ни в коей мере не преодолен и который сделал возможным завоевание континента Германией (при помощи коллаборационистов и пятых колонн). Поэтому все попытки отождествить Гитлера с историей Германии могут только безосновательно придавать Гитлеру национальную респектабельность и освященность национальной традицией.
Сравниваем ли мы Гитлера с Наполеоном, как это подчас делала английская пропаганда, или же с Бисмарком, в любом случае мы оправдываем Гитлера и позволяем себе вольности с историческими репутациями Наполеона или Бисмарка. Наполеон, при всем что можно сказать о нем, по-прежнему живет в памяти Европы как вождь армий, движимых представлениями, пусть и искаженными, о французской революции. Бисмарк был не хуже не лучше большинства европейских государственных деятелей, разыгрывавших карту силовой политики во имя нации, чьи цели были ясно определены и явным образом ограничены. Несмотря на его попытки расширить границы Германии, Бисмарк не мечтал о полном уничтожении какой-либо из соперничающих наций. Он неохотно согласился на включение Лотарингии в Германскую империю из «стратегических соображений» Мольтке, но он не желал иностранных вкраплений в пределах германских границ и не намеревался править зарубежными народами как подчиненными расами.
То, что верно в отношении политической истории Германии, еще более верно в отношении духовных корней, приписываемых нацизму. Нацизм ничем не обязан западной традиции, германской или негерманской, католической или протестантской, христианской, греческой или римской. Нравятся нам или нет Фома Аквинский или Макиавелли, Лютер, Кант, Гегель или Ницше – список может быть расширен до бесконечности, как показывает даже беглый взгляд на литературу по «германской проблеме», – они не несут ни малейшей ответственности за то, что происходит в лагерях смерти. В плане идеологии нацизм вообще не имеет никакой традиционной основы, и было бы лучше понимать опасность этого радикального отрицания всякой традиции, которое с самого начала было главной чертой нацизма (хотя и не фашизма на его ранних итальянских этапах). В конце концов, именно нацисты были первыми, кто окружил свою совершенную пустоту дымовой завесой ученых интерпретаций. Нацисты долгое время называли «своими» большинство философов, в настоящее время оклеветанных чрезмерно рьяными экспертами по «германской проблеме», причем не потому, что нацисты заботились об ответственности, а просто потому, что они понимали, что нет лучшего укрытия, чем великая песочница истории, и нет лучшего защитника, чем дети в этой песочнице, легко привлекаемые и легко вводимые в заблуждение «эксперты».
Сама чудовищность нацистского режима должна была предостеречь нас о том, что мы имеем дело с чем-то необъяснимым, даже обращаясь к примеру худших времен в человеческой истории. Ибо никогда, ни в древней, ни в средневековой, ни в современной истории уничтожение не становилось хорошо сформулированной программой, а ее исполнение – высокоорганизованным, бюрократизированным и систематизированным процессом. Эффективность нацистской военной машины действительно связана с милитаризмом, а его идеология— с империализмом. Но чтобы подойти к пониманию нацизма, необходимо освободить милитаризм от всех унаследованных им воинских доблестей, а империализм – от всех внутренне присущих ему мечтаний о строительстве империй, вроде «бремени белого человека». Иными словами, можно легко найти определенные тенденции в современной политической жизни, которые сами по себе ведут в направлении фашизма, и определенные классы, завоевать и обмануть которые легче, чем другие, – но все они должны изменить свои базовые функции в обществе до того, как нацизм сможет реально ими воспользоваться. Еще до окончания войны германская военная каста, несомненно, один из наиболее отвратительных институтов, отягощенный глупым высокомерием и традицией самонадеянности, будет уничтожена нацистами вместе со всеми другими германскими традициями и освященными веками институтами. Германский милитаризм, представленный в немецкой армии, вряд ли имел больше амбиций, чем старая французская армия Третьей республики: германские офицеры хотели быть государством в государстве, и они глупым образом полагали, что нацисты будут служить им лучше, чем Веймарская республика. Когда они обнаружили эту ошибку, то уже были в состоянии распада: одна их часть была ликвидирована, а другая – приспособилась к нацистскому режиму.
Нацисты действительно говорили иногда на языке милитаризма, как говорили они и на языке национализма; но они говорили на языке любого существующего «-изма», не исключая социализма и коммунизма. Это не помешало им ликвидировать социалистов и коммунистов, националистов и милитаристов – все они были опасными партнерами для нацистов. Только эксперты, с их любовью к устному или письменному слову и непониманием политических реалий, приняли эти утверждения нацистов за чистую монету и истолковали их как следствие некоторых германских или европейских традиций. Напротив, нацизм на самом деле является разрушением всех германских и европейских традиций, как хороших, так и плохих.
2Многие предостерегающие знаки оповещали о катастрофе, которая более чем столетие угрожала европейской культуре и была предсказана, хотя и точно не описана в известных словах Маркса об альтернативе между социализмом и варварством. Во время прошлой войны эта катастрофа стала наглядной в форме наиболее жестокой разрушительности, когда-либо испытанной европейскими нациями. С тех пор нигилизм изменил свое значение. Он более не был относительно безобидной идеологией, одной из многих конкурирующих идеологий XIX в.; он более не оставался в тихой сфере всего лишь отрицания, всего лишь скептицизма или всего лишь предчувствия безысходности. Вместо этого он стал основываться на опьянении разрушением как реальным опытом, на поглощенности глупой мечтой о создании пустоты. Этот разрушительный опыт существенно усилился после войны, когда из-за инфляции и безработицы это же поколение оказалось в противоположной ситуации полной беспомощности и пассивности внутри, казалось бы, нормального общества. Когда нацисты апеллировали к знаменитому Fronterlebnis (фронтовому опыту), они не только пробуждали память о Volksgemeinschaft (народной общности) в окопах, но и еще более сладкие воспоминания о времени крайней активности личности и ее разрушительной мощи.
Ситуация в Германии действительно более, чем где-либо еще, способствовала ломке всех традиций. Это связано с поздним становлением немцев в качестве нации, их несчастной политической историей и отсутствием какого бы то ни было демократического опыта. Это еще более тесно связано с тем фактом, что послевоенная ситуация с ее инфляцией и безработицей, без которых разрушительная сила Fronterlebnis могла бы остаться временным явлением, затронула больше людей в Германии и повлияла на них более глубоко, чем где-либо еще.
Но, хотя разрушить европейские традиции и нормы в Германии, возможно, было и легче, все же верно то, что они должны были быть разрушены, так что не какая-либо германская традиция как таковая, но нарушение всех традиций привело к нацизму. Притягательность нацизма для ветеранов прошлой войны показывает почти всеобщее влияние, которым он обладал во всех ветеранских организациях Европы. Ветераны были первыми сторонниками нацистов, и первые шаги, предпринятые нацистами в сфере международных отношений, часто были рассчитаны на то, чтобы активизировать тех «товарищей по оружию» за рубежом, которые несомненно понимали их язык и были движимы аналогичными эмоциями и аналогичным стремлением к разрушению.
Это единственный ощутимый психологический смысл «германской проблемы». По-настоящему беда была не в немецком национальном характере, а скорее в дезинтеграции этого характера или, по крайней мере, в том, что он более не играет никакой роли в политике Германии. Он в той же степени принадлежит прошлому, что и германский милитаризм или национализм. Будет невозможно возродить его, копируя лозунги из старых книг или даже принимая крайние политические меры. Но еще большая беда в том, что человек, который пришел на смену германцу – тот тип, который, чувствуя опасность полного разрушения, решает сам стать разрушительной силой, – существует не в одной только Германии. Ничто, из которого возник нацизм, можно определить в менее мистических категориях, таких как вакуум в результате почти одновременного распада социальных и политических структур Европы. Все европейские движения Сопротивления столь яростно противостоят реставрации именно потому, что они знают, что она воспроизведет тот же вакуум, которого они смертельно боятся, даже прекрасно зная теперь, что по сравнению с фашизмом это «меньшее зло». Своей огромной психологической привлекательностью нацизм был обязан не столько своим ложным обещаниям, сколько откровенному признанию этого вакуума. Его чудовищная ложь заполняла вакуум; она была психологически эффективной, потому что соответствовала некоторому фундаментальному опыту и еще более – некоторым фундаментальным влечениям. Можно сказать, что в некоторой степени фашизм добавил новую разновидность старого искусства лжи – наиболее дьявольскую разновидность, – а именно лгать истину.
Истиной было то, что классовая структура европейского общества больше не могла функционировать; она просто больше не могла работать ни в своей феодальной форме на Востоке, ни в буржуазной форме на Западе. Внутренне присущая ей несправедливость не только становилась с каждым днем все более очевидной, она постоянно лишала миллионы и миллионы людей какого-либо классового статуса вообще (из-за безработицы и иных причин). Истиной было то, что национальное государство, в прошлом служившее главным символом народного суверенитета, больше не представляло народ и было не в состоянии обеспечить его внешнюю и внутреннюю безопасность. Стала ли Европа слишком маленькой для этой формы организации или же европейские народы переросли организацию своих национальных государств, правда была в том, что они более не вели себя как нации и более не могли возбуждаться национальными чувствами. Большинство из них не желало вести национальную войну – даже во имя своей независимости.
На социальную истину краха европейского классового общества нацисты ответили ложью Volksgemeinschaft, основанной на соучастии в преступлении и управляемой гангстерской бюрократией. Деклассированные могли симпатизировать этому ответу. А ответом на истину об упадке национального государства была знаменитая ложь о Новом порядке в Европе, которая сводила народы к расам и подготавливала их уничтожение. Легковерие европейских народов, которые во многих случаях впустили нацистов в свои страны, потому что нацистская ложь ссылалась на некоторые фундаментальные истины, стоила им невероятно дорого. Но они выучили по крайней мере один великий урок: ни одна из старых сил, породивших вихрь вакуума, не страшна так, как эта новая сила, берущая начало в этом вихре, чьей целью является организовать людей согласно закону вихря – каковым является само уничтожение.
3Европейские движения Сопротивления выросли среди тех же народов, которые в 1938 г. приветствовали Мюнхенские соглашения и у которых начало войны не вызвало ничего, кроме ужаса. Эти движения возникли только тогда, когда националисты всех оттенков и проповедники ненависти получили возможность стать коллаборационистами, так что почти неизбежная склонность националистов к фашизму и шовинистов к прислужничеству иностранным завоевателям оказалась Доказана всему населению. (Немногими исключениями были такие старомодные национализм, как де Голль и журналист Анри де Кериллис, но они только подтверждали правило). Эти движения подполья были, иными словами, непосредственным результатом краха, во-первых, национального Государства, на смену которому пришли коллаборационистские правительства и, во-вторых, самого национализма как движущей силы наций. Те, кто поднялись на войну, воевали против фашизма и ничего больше. И это неудивительно; удивительно – именно из-за своего строгого, почти логического следствия – то, что все эти движения сразу нашли позитивный политический лозунг, который ясно указывал на ненациональный, хотя и очень народный характер новой борьбы. Этим лозунгом была просто Европа.
Поэтому «германская проблема», как она преподносится экспертами, естественно, должна была вызвать очень мало интереса в европейском Сопротивлении. Сразу стало понятно, что продолжать и дальше говорить о «германской проблеме» – значит только затемнять вопросы «идеологической войны», а объявлять Германию вне закона – значит делать невозможным решение европейского вопроса. Поэтому участников подполья «германская проблема» заботила лишь в той степени, в какой она является неотъемлемой частью европейской проблемы. Многие благонамеренные корреспонденты, бравшие уроки у экспертов по Германии, были потрясены отсутствием личной ненависти к немцам и наличием, в освобожденных странах, политической ненависти к фашистам, коллаборационистам и им подобным, вне зависимости от их национальности.
Слова, с которыми Жорж Бидо, бывший глава французского Сопротивления, а ныне министр иностранных дел, обратился к раненым немецким солдатам сразу же после освобождения Парижа, звучат как простое и блистательное выражение чувств тех, кто воевал против нацистской Германии не пером, а рискуя жизнью. Он сказал: «Немецкие солдаты, я – глава Сопротивления. Я пришел пожелать вам доброго здоровья. Желаю вам, чтобы вы вскоре оказались в свободной Германии и свободной Европе».
Настойчивое утверждение Европы даже в такой момент весьма характерно. Любые другие слова не соответствовали бы убеждению, что европейский кризис есть в первую очередь кризис национального государства. По словам участников голландского подполья, «мы переживаем в настоящее время… кризис государственного суверенитета. Одной из главных проблем приближающегося мирного времени будет то, как мы можем, сохраняя культурную автономию, достичь формирования больших единиц на политическом и экономическом поле… Хороший мир ныне немыслим без того, чтобы государства передали часть своего экономического и политического суверенитета высшей европейской власти: мы оставляем открытым вопрос о том, будет ли создан Европейский совет, или Федерация, или Соединенные Штаты Европы, или какая-либо еще организационная единица».
Очевидно, что для этих людей, для подлинных homines novi5 Европы, «германская проблема» не является, как для де Голля, «центром вселенной», и даже центром Европы. Их главный враг фашизм, а не Германия; их главная проблема – кризис всех государственных организаций континента, а не только германского или прусского государства; их центр тяжести – Франция, страна, которая действительно являлась, в культурном и политическом отношении, сердцем Европы на протяжении веков и чей недавний вклад в политическую мысль вновь ставит ее во главе Европы в духовном плане. В этой связи более чем важно то, что освобождение Парижа было отпраздновано в Риме даже с большим энтузиазмом, чем свое собственное освобождение; и что послание голландского Сопротивления Французским внутренним силам завершалось словами «пока жива Франция, Европа не умрет».
Для тех, кто хорошо знал Европу в период между двумя войнами, это должно было быть почти шоком – видеть, как быстро те же самые народы, что всего лишь несколько лет назад совершенно не были озабочены проблемами политической структуры, сейчас обнаружили главные условия для будущего континентальной Европы. Под гнетом нацизма они не только вновь уяснили смысл свободы, но и вернули себе самоуважение, а также обрели новое стремление к ответственности. Это достаточно ясно проявилось во всех бывших монархиях, где, к удивлению и ужасу некоторых наблюдателей, люди хотят прежде всего республиканского режима. Во Франции, стране со зрелыми республиканскими традициями, набирает силу отказ от старых централизованных форм власти, оставлявших очень мало ответственности каждому отдельному гражданину; поиск новых форм, дающих гражданину больше обязанностей, а также прав и почестей общественной жизни, характерен для всех группировок.
Основным принципом французского сопротивления было liberer et federer6 и под федерацией имелось в виду федеративное строение Четвертой республики (в противоположность «централистскому государству, которое неизбежно становится тоталитарным»). В почти идентичных выражениях газеты французского, чешского, итальянского, норвежского и голландского подполья настаивают на этом как главном условии прочного мира, – хотя, насколько мне известно, только французское подполье пошло так далеко, чтобы заявить, что федеративная структура Европы должна основываться на аналогичных федеративных структурах составляющих ее государств. Столь же всеобщими, хотя и не в равной степени новыми, являются требования социального и экономического планов. Все хотят изменения экономической системы, контроля над богатством, национализации и общественной собственности на основные ресурсы и главные отрасли промышленности. И опять же французы здесь имеют несколько собственных идей. Как сказал Луи Сайян, они не хотят «перепевов социалистической или какой-либо еще программы», ибо их беспокоит прежде всего «защита того человеческого достоинства, за которое сражались и шли на жертвы участники Сопротивления». Они хотят предотвратить опасность etatisme envahissant7, предоставив рабочим и техническому персоналу каждой фабрики долю в результатах производства, а потребителям – решающий голос в управлении им.



