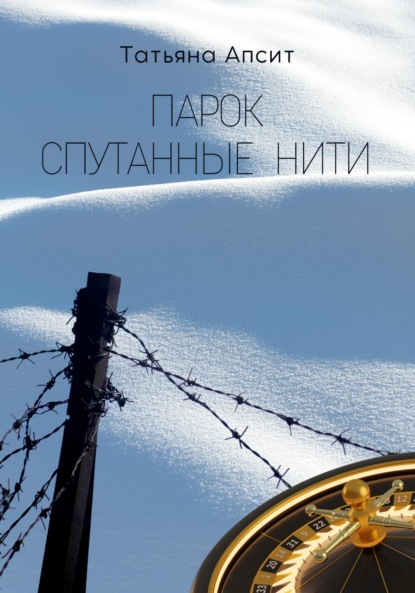
Полная версия:
Парок спутанные нити
– Собор начали строить в двенадцатом веке на месте старинной приходской церкви и строили-перестраивали почти четыреста лет. Сейчас его относят к памятникам пламенеющей готики – посмотрите на эти «язычки» вокруг арок, шпилей и фронтонов.
– Он весь такой кружевной, изящный, хоть и громадный, даже не верится, что все это кружево каменное, – восхитилась Наташа. – А какой цвет! Вроде, простой камень, но такой нежный. Пойдем внутрь?
Внутри собор ей понравился меньше: с одной стороны, огромные, пронизанные солнечными лучами цветные витражи, раскрасившие каменный пол яркими пятнами, ошеломляющая высота готических нефов и, рядом, барочная роскошь золоченых рам больших картин, масса согбенных мраморных епископов и глядящих в небеса святых, бежево-коричневые мраморные полы в крупную «шашечку» и ряды стульев посередине. Это сочетание готики и барокко Наташу разочаровало: барокко она не любила.
– Роскошный собор! – проговорил Борис, оглядываясь вокруг. – Какие надгробья императоров – вы видели?
– Да, прямо как в музее, – сдержанно подтвердила Анна Викторовна.
После полумрака собора площадь показалась золотой от солнца, и Наташа даже зажмурилась на миг, но Андрей уже звал их на улицу Грабен к памятнику жертвам чумы – Чумному столбу. Бело-золотая колонна причудливой формы оказалась вблизи высоким мраморным облаком, из которого в разные стороны устремлялись маленькие ангелы. У основания колонны преклонял колени мраморный император Леопольд I.
– Отчего этот Леопольд такой уродливый? – поинтересовалась Наташа.
Андрей пожал плечами:
– Как все Габсбурги. А чего ждать, когда в семье триста лет заключаются внутридинастические браки? У нас такое запрещено, а у католиков возможно.
– Да, – подтвердил Борис, – у них у всех дегенеративные лица, особенно у мужчин: во-о-от такие подбородки и нижняя губа в ладонь шириной.
– Может, хватит на него любоваться, тут еще много интересного, – включилась в разговор Анна Викторовна.
Они вновь вышли на Ринг, который был как праздник: что ни здание – то шедевр.
Андрей чувствовал себя абсолютно счастливым в окружении этих зданий, словно сошедших со страниц учебников, и не умолкал ни на минуту, но Анна Викторовна устала от жары, и они решили отдохнуть в парке Фольксгартен. Оказалось, в парке находится потрясающей красоты розарий, настоящий райский розовый сад, аромат которого кружил голову. В состоянии полного блаженства Анна Викторовна устроилась на скамейке, Наташа рядом рассматривала небольшой белоснежный храм в античном стиле, ярко выделявшийся на зеленом фоне.
– Андрюша, ты не знаешь, что это такое?
– Знаю точно: уменьшенная копия храма Тезея в Афинах.
– Вот скажи, почему античные храмы вызывают чувство покоя, а барочные дворцы со всеми их красотами так утомляют?
– Вопрос сложный, но отвечу кратко: потому что античное искусство гармонично, а барокко – искусство декаданса, сиречь упадка, поэтому деструктивно в принципе.
Прогулка по городу закончилась в ресторане, в ожидании заказа они рассматривали публику, и общее внимание привлекла дама в огромной розовой шляпе, она прямо со стола кормила крохотную собачку, которую держала на коленях на шелковой подушке, – картина была умилительная, хотя и непривычная. Потом им принесли картофельный салат и печеную курицу, и про даму с собачкой забыли. После отменно вкусного и плотного ужина Покровским ничего не оставалось, как вернуться в отель.
Утром Анна Викторовна почувствовала недомогание, и решила, что дети могут погулять без нее. Увидев, что «главный надзиратель» отсутствует, Борис тайно возликовал: впервые появился шанс хоть на некоторое время остаться с Наташей наедине. Следуя старому плану, они наняли коляску и направились в Хитцинг, где находился дворец Шенбрунн, старинная резиденция Габсбургов.
Огромный желто-белый дворец открылся им издалека. Борис восхищенно присвистнул:
– Говорят, в этом домике тысяча комнат! Его считают самым красивым в Австрии.
Наташа пожала плечами:
– По мне, так Большой Царскосельский дворец гораздо красивее.
Андрей возразил сестре:
– Габсбурги не были бы Габсбургами, если бы построили один только дворец. Здешний парк и сады знамениты не меньше дворца.
Парк действительно оказался необычайно красив, однако еще в Москве Наташа мечтала посмотреть венский зоосад, и сейчас напомнила об этом брату.
– Ой, прости, конечно идем смотреть твоего «изысканного жирафа», как я мог забыть!
Великолепный шёнбруннский зоосад по всем статьям превосходил московский, в котором находились преимущественно обитатели русских лесов и полей, экзотических животных содержалось мало. А здесь кого только не было! Огромные черные гориллы и розовые птицы со змеиными шеями на высоких, ломких ногах-спичках, крокодилы с африканской реки Нила, гиппопотамы, разевавшие огромные, редкозубые пасти…
Около одного вольера толпились дети – оказалось, там из бассейна на берег один за одним пулей выскакивают пингвины. Дети хохотали, глядя, как они топали потом друг за другом, переваливаясь на толстых, коротких ножках, черные, в белых манишках – такие карикатуры на людей. Однако Наташа не задержалась здесь, а медленно переходила от вольера к вольеру; молодые люди, хотя и посмеивались над ней, на самом деле тоже с увлечением рассматривали животных, буквально замирая у клеток с африканскими хищниками: им еще не приходилось видеть их так близко.
Жирафа они увидели издалека; он был очень высок, угловато-грациозен, и шкуру его украшал странный геометрический узор. Наташа протянула сквозь прутья ограждения большое яблоко, купленное еще у входа, и жираф, нагнувшись почти к лицу девушки, осторожно взял его мягкими губами.
– Посмотрите, какие у него ресницы, – прошептала она.
– Почти как у вас, – тоже шепотом ответил Борис.
Девушка взглянула на него со смущенной улыбкой, и Борис понял, что комплимент принят. Начало положено!
Весь следующий день – последний день в Вене – они провели на Ринге, любуясь прекрасными зданиями Оперы, Университета, Бургтеатра, побывали и у дома Моцарта. В ресторане, ожидая самое знаменитое местное блюдо – венский шницель, – Анна Викторовна решила обсудить австрийские впечатления и предложила начать сыну.
– Меня больше всего поразила дама в розовой шляпе – помните? Не шляпа, а настоящая клумба.
– Андрюша, брось дурачиться, я говорю о подлинных впечатлениях.
– Я не шучу, я подумывал купить такую шляпу для кузины Элис.
– Ты думаешь, Лиза бы ее надела? – усомнилась Наташа.
– Я добавил бы к подарку белую козочку и корзинку из соломки – куда бы она делась?
– Наша Лиза часто раздает печенье в деревне, – пояснила Борису Наташа.
– И одевается при этом как чистая пейзанка: кружева, рюши и бантики, бантики – тут, там, – добавил брат.
– Ты к ней излишне строг. Лиза, конечно, немного смешная, но она никому ничего плохого не сделала и угощенье печет сама, – укорила сына Анна Викторовна.
– Мама, вы же знаете, я ее обожаю, но она читает слишком много романов Чарской и стихов о королевах и пажах.
– А мне больше всего запомнился жираф, – включилась в разговор Наташа.
– С такими длинными-длинными ресницами, – негромко проговорил Борис и вновь увидел знакомую застенчивую улыбку.
Анна Викторовна задумчиво смотрела на детей: почему никто не захотел поговорить серьезно?
Х Х
Х
Поезд пришел в Ниццу утром, к десяти часам Николай уже стоял перед оградой большого сада, в глубине которого виднелась белая двухэтажная вилла «Нина». Яков Платонович, предупрежденный письмом, ожидал в кабинете. Николай был его внучатым племянником, самым любимым из молодых Ангельгардтов. На первый взгляд Николаю показалось, что барон совсем не изменился за год, с момента прежней встречи: те же «душистые седины», тот же ясный взгляд, та же элегантность и порода во всем облике. Однако, когда они обнялись, Николай почувствовал, что Яков Платонович похудел и вроде даже стал чуть ниже ростом. С холодком в груди он не головой, а сердцем, понял, что такое семьдесят три года. Обычно на летние каникулы в Ниццу съезжалась веселая компания молодежи, и большой дом оживал вместе со своим радушным хозяином, который неизменно веселился, радуясь на молодых. В этом году Николай приехал первым, без Сони – сестра готовилась к свадьбе.
Обедали они вдвоем в большой столовой за огромным столом, на самом его краю, и Николай представил, как одиноко бывает Якову Платоновичу зимой, когда молодые родственники слушают лекции в университетах. Но этой темы предпочитали не касаться: Нина и Дарья Кирилловна – дочь и жена старого барона – умерли от туберкулеза в Ницце, куда уехали из России почти четверть века назад по настоянию врачей, и Яков Платонович не хотел оставить их могилы. Раньше он время от времени возвращался в свое огромное поместье в Ярославской губернии, но давно уже полностью передал управление делами старшему сыну и жил на долю, которую сам себе выделил. Постоянно обслуживала его супружеская пара, вывезенная из России: камердинер Матвей и домоправительница и кухарка Анфиса Егоровна – Яков Платонович не любил видеть вокруг себя чужих, поэтому французскую прислугу приглашали при необходимости. Несмотря на постоянную жизнь за границей, он находился в курсе основных семейных дел, поскольку переписывался чуть не со всей родней, даже самой дальней.
Когда покончили с нежной пулярдой под грибным соусом, Анфиса Егоровна принесла чай, и пришло время разговоров. Николай предоставил деду возможность начать; тот не спешил, отодвинул чашку с блюдцем, сложил руки на столе, глянул на внука:
– Я уже поздравил твоего отца с новым званием, пусть сегодня камергер Двора – одна формальность и только. Впрочем, обращение поменялось: был «ваше благородие», а стал «ваше превосходительство». Конечно, приятно, что отметили, ведь он принял на себя столько обязанностей: и предводитель дворянства, и депутат губернского земского собрания, и попечитель разных больниц и гимназий. Полагаю, нынче ему положен новый мундир?
– Да уж, парадный мундир теперь у него роскошный: черное сукно и весь перед в золотом шитье, весит, наверное, килограммов десять.
– Хорошо, что надевать его придется только на какие-то особо значимые события.
– Честно говоря, эта поездка в Петербург подействовала на него совсем не так, как мы ожидали. Мы думали, она его воодушевит, но он вернулся очень подавленным. Мама говорила, что атмосфера там бредовая какая-то, а отец уточнил, что это атмосфера благородного гниения: либералы, террористы, масоны, декаденты всех мастей; при дворе – мистики, буддисты, шаманы, ну и, конечно, над всем этим тухлым болотом загульный святой старец Распутин. Адская смесь. Отец говорит, ничем хорошим дело кончиться не может, потому что царь очень прислушивается к своим многочисленным родственникам, особенно к матери и жене. Что может быть хуже, скажите?
Барон сокрушенно покачал головой:
– Да уж, повезло с ним России. Ce qui est surprenant: все Романовы такие высокие, как на подбор, а он совсем замухрышистый какой-то, царица его на полголовы выше. К тому же полный тезка своего так рано умершего дяди. Суеверие, конечно, но все же зря император назвал наследника в честь своего несчастного старшего брата. Очень уж различие заметно, этот ни лицом, ни умом не вышел. Все его способности показала японская война. Только мне сдается, он даже не понял, что ее результатом стали бои на Пресне, потому как семейные дела всегда казались ему важнее дел государственных.
– При дворе говорят, среди Романовых сейчас большое несогласие, и причина в государе, который ни с кем не хочет портить отношения: у него тот прав, кого он принял последним.
Яков Платонович вздохнул:
– Когда Столыпин навел порядок в стране, государь решил, что сам справился с мятежом. Он уверовал в безграничную поддержку народа и силу самодержавной идеи, которые позволили смирить кучку смутьянов. Вот так. Боюсь, опять вляпается во что-нибудь. С Ходынки начал, а уж чем кончит – бог весть. Ладно, не будем кликать лихо. Расскажи лучше, mon cher, сам-то что собираешься делать.
– Отец хочет, чтобы я занялся техническим оборудованием имения, у нас с ним есть несколько интересных идей.
– Хмары и при прежних хозяевах, при Ридах, выглядели достойно, но при брате Александре – твоем деде Александре Платоновиче – стало куда лучше. Тогда всю усадьбу переделали, и дом тоже перестроили. Особенно славилась его ферма, эти коровы, что он завез из Швейцарии. Мощные такие, бело-рыжие. Он скрестил их с местными, и, помню, гордился ими, как родными детьми. Потом на Смоленской сельскохозяйственной выставке его скот главные награды брал, tous les voisins enviés.
– Ну, соседи до сих пор завидуют: симментальские метисы, «трехведерные», как их у нас называют, и сейчас гордость семьи. А имения вы бы теперь не узнали: электрическое освещение, как здесь, только от динамо-машины, водопровод, оранжерея, а сад какой! Почти полторы тысячи плодовых деревьев, а вишенник, а малинник… В парке полно всяких диковинок: акации, рододендроны, сирени, а сколько там сортов роз, того вам, пожалуй, никто не скажет. Матушка постоянно новые сорта цветов выписывает. Райское место, ей-богу. И еще теннисный корт, и крикетная площадка – к нам все соседи съезжаются.
– Боюсь, mon cher, здесь тебе скучновато покажется: молодые Иваницкие и остальные задерживаются в Париже.
– Не беспокойтесь, я найду, чем себя занять.
Николай понимал, что Яков Платонович из тактичности не хочет навязывать ему свое общество: барон обладал редким даром создавать комфортные условия для окружающих и при этом оставаться на периферии, в роли наблюдателя. В его характере отсутствовал старческий эгоизм, требующий постоянной благодарности и почтения к создателю этих благ, поэтому внуки и племянники с такой охотой приезжали в его дом – проблемы отцов и детей здесь не возникало, хотя молодежь иногда вела себя довольно бесцеремонно.
Николай относился к деду с нежностью, ценил его ум и проницательность и ту культуру деликатного общения, что почти исчезла из современной жизни. Обычно он проводил вместе с Яковом Платоновичем ранние утренние часы, по вечерам они подолгу гуляли, обсуждая в неспешной беседе политические и экономические новости, поскольку среди знакомых старого барона встречались люди весьма известные и осведомленные, поселившиеся в Ницце в незапамятные времена.
Х Х
Х
Сердце чуть отпустило, и уже стало можно легонько, неглубоко дышать. Кирилл Тимофеевич беззвучно повторял слова молитвы, но они путались, мысли уплывали, и сосредоточиться не удавалось. Больной смирился и лежал, прислушиваясь к дыханию Софьи Григорьевны за стеной. Дверь между комнатами оставалась открытой, и он знал, что она прилегла, не раздеваясь, готовая в любой момент явиться на его зов. Господи, спасибо Тебе за жену!
Отчего-то он вспомнил свое горькое детство, в котором они, двое сыновей бедного сельского священника, росли без материнской ласки и даже почти не помнили мать – она умерла третьими родами, когда они были совсем маленькими. Они не раз видели, как плакал отец, и плакали вместе с ним. Сейчас-то Кирилл Тимофеевич понимал, что отец не только оплакивал жену: он не справлялся с хозяйством, с безденежьем, с болезнями детей – не справлялся с жизнью и приходил в отчаяние, глядя на сопливых, грязных и голодных мальчишек. Все, что так ловко и незаметно делала жена, горой свалилось на его плечи.
Неожиданно старик понял, что плачет сам. Стирая слезы у виска дрожащей рукой, он думал о том, сколько раз они с Васяткой оставались одни в домишке, который выстуживался после протопки в считанные часы. Только на печке под старым тулупом оставалось немного тепла, и они жались друг к другу, словно щенки в корзине. Служение в церкви, исполнение треб, выезды по вызовам днем и ночью, в любую погоду, безоговорочно, в зной, ливень, снег, метель – вынуждало отца оставлять детей без присмотра. Поскольку церковные правила позволяли находиться в доме овдовевшего священника лишь его матери, тетке или сестре, ему, давно уже не имевшему прямых родственниц, пришлось справляться со своими бедами в одиночку. Он даже не мог отдать старшего в Духовное училище, потому что Кирилл все же как мог помогал ему с младшим. Его отправили учиться в десять лет, когда подрос смешной белоголовый братишка, нынче монах Авдий в Валаамском монастыре.
За окном стало совсем светло, и вдруг разом запели птицы. Старик повернулся на бок, кровать скрипнула, и через минуту в комнату заглянула Софья Григорьевна:
– Ты не спишь, Кирюша?
Она подошла к нему с тем выражением ласковой заботы, которое всегда его трогало. Какая прохладная и мягкая у нее рука…
– Дай-ка я тебе валерьянки накапаю. Ты совсем не спал?
– Я даже не знаю. Вроде дремал. Какие-то картинки из детства…
– Не надо бы тебе сейчас о грустном думать.
– Я вспоминал духовное училище. Там было хорошо. Сначала я, конечно, скучал по дому, по брату. Но к новой жизни привык быстро, нашел друзей. Так и положено в детстве. Там жилось сытно и весело.
Софья Григорьевна почти не слушала мужа, сосредоточившись на отсчете капель из коричневой бутылочки, а он продолжал задумчиво:
– И сейчас представляю, как живого, ворчливого доброго отца Никодима, преподавателя славянской грамматики. Он отличал меня перед всеми за прилежание.
Разбавив капли водой из кувшина, Софья Григорьевна протянула стеклянную рюмочку мужу:
– Прими.
Он чуть приподнялся и покорно выпил лекарство, оставаясь по-прежнему в прожитом:
– В третьем классе я открыл латынь и греческий. О, это был настоящий гипноз – Гомер, Гораций, Сенека, Плутарх… Отец Тихон даже удивлялся. Соклассники, конечно, насмешничали, но больше от зависти. Веришь ли, я и сейчас могу на память прочесть Горация или ответ Ахиллеса Агамемнону.
Софья Григорьевна похлопала мужа по руке:
– Верю, верю. Тебе нельзя волноваться.
– Да я не волнуюсь.
– Я пойду чай поставлю. Будешь шиповниковый?
Жена ушла, а Кирилл Тимофеевич все не мог выпутаться из магической паутины. Вспоминал, как позднее, уже в семинарии, с увлечением занимался живыми языками – немецким и французским – и собственных детей, а позднее и внуков, обучал языкам с младенчества и гордился тем, что Ташенька и Андрей чуть не с рождения лопотали по-немецки и по-французски и в гимназии всегда шли среди лучших по языкам. Обоим сыновьям это, кстати, тоже очень пригодилось: Александр читал лекции по математике в швейцарских университетах и в самой Сорбонне, а Костя без затруднений работал с немецкими инженерами в компании «Сименс».
Но главным событием и главной удачей в жизни – он всегда это понимал – стала встреча с семейством Макаровых: его направили в помощники к отцу Григорию после окончания семинарии.
Его, давно лишившегося родительской любви, поразила сама атмосфера дома: внимание родителей друг к другу, ненавязчивая, но подлинная и постоянная забота о детях. Он дал себе слово, что его будущая семья станет именно такой. Макаровы жили бедно, потому что большую часть невеликих доходов родители тратили на образование трех дочерей – они могли рассчитывать на хорошее замужество, только окончив епархиальное женское училище, которое готовило воспитанниц к реальной жизни. Девицы семейства Макаровых действительно имели хорошее образование: все играли на фортепиано, рисовали, говорили по-французски, танцевали, умели поддержать беседу. Кроме того, они прошли полный курс домоводства, то есть могли экономно, но достойно, вести дом. Они не только знали секреты хорошей кухни, но и умели, что называется, сварить суп из топора, прекрасно шили – были на все руки мастерицы. После училища старших дочерей приняли воспитательницами в богатые дома, и родители гордились, получая прекрасные отзывы об их работе.
С первых минут знакомства Кирилл Тимофеевич не мог отвести глаз от младшей – Сонечки (по счастью, еще не помолвленной, как сестры), и через два года она из Макаровой сделалась Покровской, а потом стала лучшей матерью Саше и Косте.
Он вспомнил радость всей семьи, когда его повысили из дьяконов в иереи и перевели в Рождественскую церковь, оставшуюся без священника. Сколько там на них свалилось работы! Прежний батюшка после смерти попадьи совсем опустил руки и оставил после себя такую разруху. Пришлось приводить в порядок еще и домишко. Но справились, слава богу.
Софья Григорьевна вошла с подносом, на котором стояла чашка чая, тарелка с пирожками и сметанник, полный свежей сметаны. Поняв по выражению лица мужа, что есть ему не хочется, она укоризненно покачала головой:
– Кирюша, не будь ребенком, поесть надо. Здесь все легкое: чай шиповниковый, пирожки с ягодами и со щавелем – одни витамины. Тебе без них сейчас нельзя, сердцу помогать нужно. Ты слышал, что доктор сказал?
– Слышал, Сонечка. Но совсем нет желания.
– Давай договоримся: чашка чая и пирожок, и я больше не стану тебя беспокоить.
– Ты меня не беспокоишь. Я тут вспоминал, как мы с тобой приехали в Рождественскую церковь.
Она поставила поднос на прикроватный столик и засмеялась:
– Когда я про это думаю, то всегда вижу одну картину: дырявая крыша, и мой Кирюша с дьячком Акинфием, подоткнувши рясы, тягают наверх доски для починки. Знал бы ты, как я боялась тогда за вас – ведь на такой высоте!
Больной тоже улыбнулся:
– Все же главное в том деле было выпросить доски у управляющего имением. Уговорить не удалось, тогда я написал трогательное письмо Соколову – помещику. И разжалобил-таки его!
– Это я уже запамятовала, а как боялась за тебя, до сих пор помню.
Понемногу разговорив мужа, Софья Григорьевна убедила его позавтракать, поправила одеяло, и он, измученный бессонницей, покорно прикрыл глаза. Взяв поднос, она тихонько вышла, осторожно притворив за собой дверь. На кухне налила себе чаю, села к столу, подперев голову рукой, и задумалась, вспоминая.
Да, на новом месте дел у Кирюши прибавилось, но и на ее долю забот хватило: устроить дом, обзавестись хозяйством, разбить сад и огород. Как же она уставала! Кирюша каждый день на службе, ни суббот, ни воскресений свободных – какой из него помощник? Спасибо родители поддержали. Приехали, посмотрели, посчитали что да как, и поделились чем могли: в другой раз привезли семян, десяток цыплят в лукошке и пару маленьких свинок в мешке. Главное, оставили у себя малышей на целый год. За это время они и домишко починили, и хозяйство наладили: матушкины цыплята превратились в пестрых курочек и начали нестись, обе свинки принесли приплод, с грядок сняли первый урожай. Дальше стало полегче. Работы у Кирюши не уменьшилось, но он всегда находил свободное время для детей – возился с ними, читал, позднее готовил к духовному училищу. К счастью, взяли их казеннокоштными – такое облегчение для семьи. Когда мальчики поступили в духовное училище, они решили забрать к себе Тимофея Ивановича.
Старику шел уже седьмой десяток, и, по правде говоря, на него смотреть было страшно: ряса грязная, борода нечесаная, взгляд такой замученный и постоянный кашель. А как вышел заштат, начал понемногу оживать. Кирюша за ним ухаживал как за малым ребенком – и мыл, и парил, и стриг, и все разговаривал, разговаривал. Он и ожил.
Летом целые дни проводил на реке с удочкой, но, кажется, не столько рыбу ловил, сколько следил за всякими жучками-паучками. Возвращаясь домой с уловом окуньков и ершей, он рассказывал бесконечные истории о шмелях и пчелах или стрекозах и комариках и переживал их как что-то очень важное. Крестьяне считали его блаженным, а Кирюша, слушая эти рассказы, говорил, что отец мог бы стать замечательным, может быть, даже великим натуралистом. Наверно, так.
Гордились они обоими сыновьями, но особенные успехи показывал Саша: сразу после окончания университета представил диссертацию, получил в университете должность приват-доцента и еще преподавал математику в межевом институте и в нескольких гимназиях. Зарабатывал хорошо, только одно огорчало – совсем не думал о создании семьи. Вскорости – и тридцати не исполнилось – защитил докторскую диссертацию, а до этого произошло то, чего они с Кирюшей так ждали: его познакомили с милой девушкой, дочерью профессора начертательной геометрии Ланге Анной. А потом случилось настоящее чудо: богатая и бездетная тетка Ани – Матильда Францевна, вдова купца первой гильдии Августа Лебеля – подарила любимой племяннице на свадьбу имение в недальних окрестностях Москвы. Усадьбу и двести пятьдесят десятин земли за четырнадцать тысяч! «Чтобы вывозить детей на лето», как она сказала.
Ясно, что Саша им заниматься не мог, вот и решили, что управляющим станет отец. Никто, кроме нее, не догадывался, что такая покупка являлась Кирюшиной тайной и безнадежной мечтой. Только где было взять столько денег? Вот и приходилось всю жизнь зависеть от милости соседских помещиков. А тут сразу после оформления купчей он подал в консисторию прошение о выходе на пенсию, и началась их новая жизнь.

