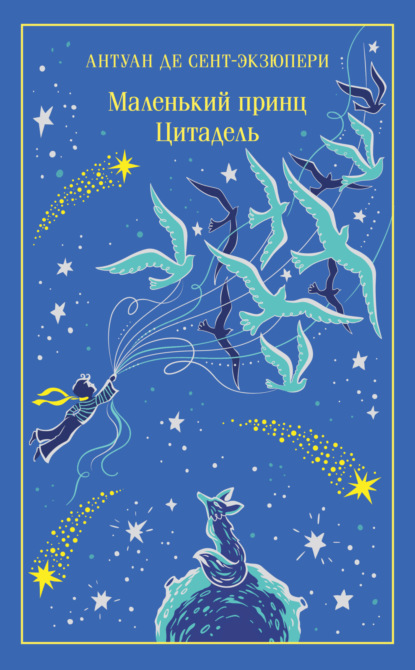
Полная версия:
Маленький принц. Цитадель
– Ты подумаешь, что мне плохо… Тебе может даже показаться, что я немного умер. Скорее всего тебе так и покажется. Зачем на это смотреть? Не стоит.
– Я пойду с тобой.
Маленький принц говорил очень серьезно:
– Я прошу еще из-за змеи. Не хочу, чтобы она тебя укусила. Змеи, они злые. Жалить для них наслаждение.
Помолчал и со вздохом облегчения сказал:
– Вспомнил, на второй укус у нее не хватит яда.
В эту ночь я не слышал, как он ушел. Он ушел бесшумно. Я догнал его. Он шел скорым твердым шагом.
– А, это ты, – обронил он на ходу.
И взял меня за руку. Он за меня волновался.
– Зря ты идешь со мной. Тебе станет больно. Увидишь, что я умер, а это будет неправда.
Я молчал.
– Понимаешь, я живу очень далеко. Я не могу взять с собой тело. Оно тяжелое.
Я молчал.
– Это как сбросить старую кожу. Старую кожу не жалко.
Я молчал. Он немного растерялся.
И все-таки сделал еще одну попытку.
– Послушай, как будет хорошо. Я тоже буду смотреть на звезды. Для меня каждая звезда будет колодцем с заржавевшим воротом. Звезды будут поить меня водой.
Я молчал.
– Послушай, все будет хорошо. У тебя пятьсот миллионов бубенчиков, а у меня пятьсот миллионов колодцев.
Он замолчал, он тоже глотал слезы.
– Пришли. Не ходи дальше. Я сам.
Он сел на песок, потому что стало страшно. Потом сказал:
– Моя роза… Я за нее отвечаю. Она беспомощная и такая наивная. У нее всего четыре шипа, чтобы защититься от всего на свете…
Я тоже сел, меня не держали ноги.
– Ну вот… Теперь все, – сказал Маленький принц.

В эту ночь я не слышал, как он ушел. Он ушел бесшумно.
Посидел еще немного и встал. И сделал шаг.
А я застыл.
Будто маленькая молния вспыхнула у его ноги. Он не шевельнулся. Не вскрикнул. А потом упал. Медленно, как падает срубленное деревце. Бесшумно, потому что упал на песок.

– Я тоже буду смотреть на звезды. Для меня каждая звезда будет колодцем с заржавевшим воротом.
XXVIIС тех пор прошло шесть лет. Я никому ничего не рассказывал. Мои товарищи обрадовались, когда увидели, что я вернулся и не погиб. А я был очень грустный, но объяснил, что устал.
Теперь мне уже полегче. Ну да… Но не совсем. Зато я знаю, что он вернулся на свою планету, потому что на рассвете я не нашел его тела. Не такое оно было тяжелое, он смог забрать его с собой. По ночам я полюбил слушать звезды. На небе россыпь смешливых бубенчиков. Пятьсот миллионов…
Но вот еще какая беда. К наморднику, который я нарисовал для овечки Маленького принца, я забыл пририсовать ремешок. Он не сможет надеть его на овечку. И я все думаю: как они там? А что, если овечка съела розу?
Иногда я думаю: нет, быть такого не может! Маленький принц держит розу под стеклянным колпаком. Он следит за овечкой. И я счастлив. И все звезды потихоньку смеются.
А иногда я думаю: отвлекись на секунду, придет беда! Что, если он забыл про стеклянный колпак? Или овечка выбралась потихоньку ночью… И тогда все звезды кажутся мне слезинками…
Вот она, тайна. Мы любим с вами Маленького принца, и поэтому для вас и для меня вселенная все время меняется: мы волнуемся, съела овечка розу или нет где-то там, неизвестно на какой планете.

Здесь Маленький принц появился и отсюда он улетел.
Посмотрите на небо. Спросите: съела розу овечка? Или нет? Она ее не съела?
И вы увидите, как ответ на вопрос меняет вселенную.
А взрослые не хотят понять, что это важно.
Для меня это самая прекрасная и самая грустная картина на свете. Она та же, что на предыдущей странице. Но я нарисовал ее еще раз, чтобы вы снова на нее посмотрели. Здесь Маленький принц появился и отсюда он улетел.
Посмотрите на нее внимательно, запомните хорошенько, чтобы узнать, если вдруг вам доведется побывать в Африке. Если вдруг вы окажетесь там, я вас очень прошу, не спешите, постойте под этой звездой. И если к вам подойдет мальчуган, засмеется, и у него будут золотистые волосы, и он не ответит на ваш вопрос, вы догадаетесь, кто это. И тогда, пожалуйста, сразу напишите мне, что Маленький принц вернулся, и тогда я не буду больше тосковать…
Цитадель
Предисловие
Всю свою жизнь эти люди трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки… малая их часть истратилась на полезное, а все остальное – на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. На то, что ничему не служит, а только вбирает отданную им жизнь и живет дольше человеческой плоти.
Зададимся вопросом, какое место в творчестве Сент-Экзюпери занимает «Цитадель». Речь пойдет не об оценке содержания, а всего-навсего о хронологии. Хронология призывает нас увидеть в этой книге седьмую из тех семи книг, которые когда-то обязался написать начинающий писатель для издательства «Галлимар», заключив с ним контракт в 1929 году. Образцовый автор, исполненный щепетильности: как только обязательства были выполнены, писатель получил право «отделившись от своего творения, словно жнец, увязавший сноп, растянуться и заснуть на поле». Так Сент-Экзюпери написал об уходе из жизни Мермоза, и себе уготовил такую же участь…
Увы! Легенда о писателе и без того изобилует всевозможными патетическими штампами, поэтому не будем прибавлять к ним еще один.
Тем более что этот выглядел бы откровенной подтасовкой: в 1944 году «Цитадель» не только не была опубликована, она даже не была закончена. А если к тому же вспомнить, что замысел этой книги возник в 1936 году, когда Сент-Экзюпери был автором всего лишь двух романов – «Южный почтовый» и «Ночной полет»… Неужели «Цитадель» должна была стать третьим произведением в списке задуманных, но финишная прямая забрезжила лишь спустя пятнадцать лет после возникновения замысла?..
Итак, седьмая из семи намеченных книг. Довольно любопытная, хотя и читается с немалым трудом. Отзывы критиков об этой книге всегда были язвительными. Критики словно бы втайне сожалели, что творческий путь автора не оборвался на «Письме заложника» или на «Маленьком принце», чье исчезновение так похоже на пророчество. По их мнению, финал был бы гораздо более впечатляющим и без пафосной истории бедуинов. Случай, который сделал последней книгой «Цитадель», может быть, и смыслил что-то в мистике чисел, но в литературе не смыслил ровным счетом ничего.
Однако оставим в стороне суждения критиков и вернемся к хронологии. В 1936 году появляется набросок на двенадцати страницах под названием «Каид», который скорее всего представляет собой начало большого задуманного произведения. К этим страницам, однако, так ничего и не прибавилось, по крайней мере в ближайшие после этого годы, никакого развития набросок не получил. Буколическая поэма, прерывающаяся сценой казни, за которой следовало размышление о женщинах, показалась, очевидно, автору мало уместной во времена, когда заполыхала гражданская война в Испании, когда над Германией, а значит, и над всей Европой нависла зловещая угроза. Да и личная жизнь автора была в те годы далека от идиллии. Неопределенность социального положения, издержки непростой семейной жизни, проблемы со здоровьем, всерьез подорванным катастрофой в Гватемале (февраль, 1938), – все это мало способствовало прозорливой ясности души, необходимой для выстраивания масштабного произведения. Можно ли было ждать осуществления подобного замысла среди разнородной, хотя и не лишенной интереса деятельности, которая поглощала тогда время Сент-Экзюпери, деятельности, лишенной внутреннего единства и стабильной отдачи? Статьи, репортажи, лекции, киносценарии, изыскания в области авиации, получение патентов на свои изобретения, неудачные попытки поставить новые летные рекорды. Сент-Экзюпери постоянно переезжает с места на место, много путешествует: то он в Испании, то в Германии, то в России, то в Нью-Йорке. Подобный образ жизни свидетельствует скорее всего о том, что своей лихорадочной деятельностью он лечится от тоски и подавленности. Но вот началась Вторая мировая война. Сент-Экзюпери стремится во что бы то ни стало участвовать в боях. Он прекрасно понимает, как опасен в такое время душевный и умственный разброд, он собирается, он сосредоточивается, и вновь к нему возвращаются оставленные на время размышления, он снова пишет.
Первые пятнадцать глав «Цитадели», насчитывающие сто девятнадцать страниц, были закончены до его приезда в Нью-Йорк, а в Нью-Йорк он прибывает 31 декабря 1940 года. Произведение продвигается вперед, соответствуя и не соответствуя первоначальному замыслу. Изменения возникают под влиянием происходящих событий. Франция захвачена нацистами. Первые акции сопротивления направлены против захватчиков в защиту родины. Мало кто в этот момент ратует за человечность против бесчеловечности. Сент-Экзюпери за руинами разбомбленных домов видятся руины философских гуманистических систем и обвал культуры. С особой остротой он ощущает необходимость вновь насытить духовными ценностями человеческое сознание. Эту задачу он и будет отныне решать, воздвигая свою «Цитадель».
Не стоит представлять себе нью-йоркский период жизни Сент-Экзюпери как передышку между боевыми действиями на территории Франции и средиземноморскими военными заданиями. Разумеется, в Нью-Йорке Сент-Экзюпери был избавлен от преследования нацистов, но там он был удален и от борьбы против них, тогда как смысл своего существования видел только в активном сопротивлении, без которого не мог ничего писать. Он не искал передышек, напротив, всюду – в Северной Африке, Сардинии, на Корсике – искал встреч с войной, но не в качестве авантюриста или сорвиголовы (есть и такие недальновидные трактовки его действий), а как человек солидарный со своим народом и с другими народами, которые не пожелали смириться с бесчестьем тоталитаризма; как человек, знающий, что солидарным нужно быть и телом, и разумом, потому что без телесного участия разум выдувается ветром слов, растрачивается в тщете бесполезных споров. Находясь в Америке, он не участник французского Сопротивления, он не в рядах борцов за освобождение, он «демобилизован» в самом унизительном смысле этого слова, оттеснен на чужую территорию, пребывание на которой не дает ему права, как он считал, быть даже свидетелем. А своему перу он хотел придать ту весомость, какую придает только близость смерти.
Тоска оттого, что он остался в стороне и поэтому лишен права голоса, – не единственное, что гложет Сент-Экзюпери между январем 1941 года и апрелем 1943-го. Тело, которое он так стремится сделать залогом собственной порядочности, заставляет его, в ожидании морского покоя, каждый день страдать. Житье то у одних знакомых, то у других, смена квартир, смена городов – отсутствие постоянного домашнего очага наводит на мысль о внутреннем беспокойстве и семейных неурядицах. А настоящих друзей становится все меньше. Не вернулся из полета Гийоме, его сбили, когда он летел над Средиземным морем. Тяжело в такие времена оставаться без дружеской поддержки. На «Письмо к французам», написанное Экзюпери, Жак Маритен отвечает суровой отповедью. Экзюпери небезразличен к его мнению, он уважает и ценит Маритена. Что же? Неужели прямодушные, бескомпромиссные люди становятся непримиримыми, когда не совпадают их оценки событий?
Но гораздо больше, чем несправедливые обвинения, всегда политически пристрастные, а иногда и постыдно подлые, – причем к голосам завсегдатаев нью-йоркских салонов, где решались судьбы мира, присоединялся, долетая через Атлантику, и хор оголтелых гитлеровских приспешников, – ранило Сент-Экзюпери состояние, в котором находилась Франция: исконный порядок в ней разрушен, родину раздирает ненависть, одни французы желают гибели другим. Он отказывается осуждать Петена, «ответственного за позор», считая, что вместе с ним осудит и миллионы французов, которые доверились маршалу, ухватившись за него как за соломинку. Отказывается присоединиться и к де Голлю, считая, что тот закладывает возможность для своих приверженцев и подпевал рассечь в будущем нацию на две несовместимые части: героев и предателей, Почетный легион и трусливое быдло. И Петен, и де Голль, по мнению Сент-Экзюпери, нашли для себя опору в национальной катастрофе. Ответственность за нее не лежит на них, но они ее используют. Один – для того, чтобы, руководствуясь памятью о былом величии страны, поспешно вернуть ей чуть было не утраченный политический статус, – о котором народ и не помышлял, – создать с несвоевременной манией величия французское государство, что, честно говоря, Сент-Экзюпери совсем не одобрял. Другой – для того, чтобы в будущем установить в стране некое подобие того самого фашизма, от которого сейчас всеми силами пытается избавиться Европа и который в результате станет монополией Франции. Спорные обвинения? Вполне возможно. В отношении де Голля, пожалуй, и чрезмерные. Но нам важно другое – непоправимое одиночество, на которое обрекает Сент-Экзюпери его двойной отказ и идея, что только сам народ вправе решать свою судьбу.
Личные беды, проживаемые эмоционально и физически, общественные беды, из-за которых мучается чуткая совесть, – тяжкое бремя. Но творчески плодотворное. Перечислим одни только литературные произведения, которые были написаны в этот период: «Военный летчик», «Письмо заложнику», «Маленький принц», «Цитадель». Каждое отвечает настоятельным требованиям момента. Каждое поражает универсальностью проблем, которые оно охватывает. Каждое значительно в силу своей оригинальности. Каждое было рождено особым стечением обстоятельств. Мы отделим три первых произведения от четвертого. Не потому, что «Цитадель» не закончена, а потому, что мотивы возникновения этого произведения хоть и были связаны с текущим моментом, как все, что писал Сент-Экзюпери, но были они совершенно иными, чем у остальных.
Сент-Экзюпери перебрался в Соединенные Штаты, однако средств, чтобы жить там, у него не оказалось. Счета во Франции были заморожены. На выручку ему пришли американские издатели, они сняли для него квартиру, снабдили деньгами. Как-никак книги Сент-Экзюпери пользовались в Америке успехом. «Планета людей» (Wind, Sand and Stars) принесла не только лестную известность автору, но и немалый доход. Так почему бы не продолжить сотрудничество? Сент-Экзюпери получил предложение высказать свое мнение о той «странной войне», в которой сам принимал участие, которая так трагически кончилась и о которой здесь, на противоположном берегу Атлантического океана, практически ничего не знали. Ни для кого не секрет, что издатели вовсе не ангелы-хранители, посылаемые изгнанникам, что, вложив деньги, они требуют ответных вложений, понял это и Сент-Экзюпери: издатели день ото дня становились все настойчивее, отбросив в сторону любезности. Неприятная ситуация? Но у кого хватило бы наивности счесть ее неожиданной и удивиться? Однако, судя по всему, решающий аргумент в пользу будущей книги нашли не издатели, а переводчик на английский язык Галантьер и несколько близких друзей Сент-Экзюпери. Аргумент сводился к следующему: о Франции известно только то, что она побеждена. Разве не его долг перед родиной объяснить, почему он вступил в бой, несмотря на численное и техническое превосходство противника, почему и теперь продолжает сражаться? Этот долг вдохновил писателя больше, чем денежный, и ему мы обязаны появлением «Военного летчика».
Существует мнение, что лучшие произведения возникают тогда, когда пишутся на заказ. Свидетельством тому ХVII век, творчество Валери, да и других писателей. «Flight to Arras» (по-русски «Военный летчик») в течение полугода держал первое место среди самых продаваемых книг Соединенных Штатов. Издатели не просчитались, благородный жест окупился сторицей.
Совсем иным путем возникло «Письмо заложнику». В октябре 1940 года Сент-Экзюпери навестил в местечке Сен-Амур в горах Юра своего друга Леона Верта и получил от него рукопись под названием «Тридцать три дня», рассказ о всеобщем бегстве… Он пообещал написать к нему предисловие и передать в издательство Брентано в Нью-Йорке. Перечитывая рукопись в Америке и уже озабоченный в первую очередь тем, чтобы объединить всех французов, Сент-Экзюпери относится с особой чувствительностью ко всему, что может посеять рознь, его настораживают пассажи Верта, обличающие торопливое и угодливое верноподданничество тех, кого впоследствии назовут «коллаборационистами». Был ли Верт не прав? Разумеется, нет. Но в тот момент обличения показались Сент-Экзюпери преждевременными, они не давали людям возможности почувствовать себя заодно, углубляли между ними пропасть. Сент-Экзюпери не стал писать предисловия, но продолжал обдумывать и вынашивать питающие его идеи… Никак не связанное с текстом Верта «Письмо заложнику» было обращено ко всем заложникам, живущим во Франции, и вышло отдельным изданием в июне 1943 года.
Имя Верта там не упоминалось. Сент-Экзюпери не захотел подливать масла в огонь распри, но это не значило, что он забыл или отказался от своего друга. Больной одинокий Верт, живя в порабощенной Франции, где подлость и низость соперничали друг с другом, был уязвим вдвойне – как еврей и как коммунист. Этот заложник находился в самом опасном положении. В знак своей неизменной верности Сент-Экзюпери посвятил ему «Маленького принца», искупая исчезновение имени Верта из «Письма».
«Маленький принц» тоже обязан своим появлением вмешательству извне, хотя его милая удивленная мордашка стала появляться уже с 1935 года то на полях рукописей, то в письмах. Но тогда еще ничего не говорило о том, что этот прилетевший из космоса малыш, скорее трогательный, чем выразительный, ностальгический, а не пророческий, сделает еще один шаг и станет не рисунком, а литературой. Элизабет Рейнал, жена нью-йоркского издателя Сент-Экзюпери, заметив тоскливое настроение писателя, предложила ему оживить белокурого кудрявого мальчугана, который жил в воспоминаниях взрослого. Вполне возможно, созданию сказки поспособствовала и Аннабелла, жена Тайрона Пауэра. В 1941 году, когда Сент-Экзюпери лежал в голливудской больнице, она читала ему «Русалочку» Андерсена, желая развлечь или – так он сам отзывался о детских книгах – насытить глубокими питающими образами. Могло так быть? Вполне. Во всяком случае, к уже существующим волшебным сказкам Сент-Экзюпери прибавил еще одну, о своем детстве, омраченную, правда, опытом взрослой жизни. Маленькому принцу случается смеяться, но он никогда не улыбается. А Мальчик-с-пальчик улыбается? С героем сказки всегда рядом какое-нибудь чудовище – людоед или змей, иногда морской, он спит, свернувшись, как огромная собака, под синей простыней Средиземного моря – так на своей картине «Сальвадор Дали, маленькая девочка» изобразил подобное чудище художник.
Друзья, с которыми Сент-Экзюпери поделился замыслом «Каида», кому читал первые страницы, единодушно пытались убедить его отказаться от задуманного: во‐первых, он отказывается от стихии полетов, во‐вторых, лирическое повествование от первого лица звучит так странно, так архаично… Ничего не поделаешь: Сент-Экзюпери уже отведено место в каталоге: свидетель и участник первых полетов. Всегда нелегко выдираться из рубрики.
Осенью 1940 года писатель возвращается к своим наброскам и продолжает писать в том же ключе. И опять читает написанное близким друзьям, которым доверяет. И опять получает в ответ скептические усмешки и уверения, что он пошел по ложному пути, и опять остается непреклонен.
Мы уже говорили, что все три написанные в Америке произведения возникли как ответ на какой-то толчок извне; главным толчком, на который отвечал Сент-Экзюпери, было бескорыстное служение дружбе – привязанность к Леону Верту, беспокойство за него стало могучим внутренним стимулом для творчества.
Если вспомнить, что появление на свет «Ночного полета» не обошлось без участия Андре Жида, который всячески ободрял молодого автора, когда тот работал над своим произведением, что позже опять-таки Жид посоветовал «собрать, как букет» статьи, появившиеся в «Марианне», «Л’Энтрасижан», «Пари-Суар», и букет превратился в «Планету людей», то можно сказать, что только «Южный почтовый» и «Цитадель» создавались без всякого вмешательства извне. Первое и последнее произведения были плотью от плоти автора, его сокровенным. Были той мелодией, тем сумрачным и торжественным гимном, что возник не благодаря какой-либо встрече, а постоянно звучал в его душе, был им самим, как дыхание, биение сердца, пульсация крови – органист в пустоте заброшенного собора импровизировал, передавая самого себя. «Я полон музыкой, которую никто никогда не поймет». И вдруг сам он понял, что его предназначение в этом мире – дать возможность услышать его внутреннюю музыку. Хотя извне ничто не подвигало его на это.
Что же? Неужели мы хотим сказать, что в других произведениях не звучала внутренняя музыка? Нет, конечно, звучала. В «Южном почтовом» она пробивалась сквозь сюжетное плетение и вилась вокруг главных тем, которые имеют мало отношения к самолетам. Появлялась она и в других произведениях, отодвигая то там, то здесь сюжетное повествование, погружая читателя в философские размышления, передавая беседы, вряд ли где-то подслушанные. Но эти произведения походили скорее на либретто, а для музыки был необходим оркестр. И еще эта мощно звучащая музыка не нуждалась ни в каких толчках извне, она сама была мощным, могучим толчком.
Сент-Экзюпери, воспевая танец, говорит, что он не ведет никуда, но возвращает танцовщицу к истокам, сформировавшим ее внутренний мир. Танец – ходьба, доведенная до совершенства, освобожденная от дорог и озабоченности целью. Он движение без обязательства добраться до какой-либо точки. Бескорыстный дар освобожденного от тяжести тела, который нельзя запасти впрок. По сути, он та же «бесполезная роскошь», о которой шла речь в цитате, вынесенной нами в качестве эпиграфа… В «Цитадели» Сент-Экзюпери с самого начала создает пространство, в котором музыка голоса звучит с особенной значимостью – так на просторе сцены разворачивается танец, набирая – движение за движением – выразительность, впечатляя ритмом, рисунком, ограничениями, сковывающими тело. Как часто мы встречаем у Шатобриана, у Руссо страницы, удивляющие нас своей легковесностью, но мы не в силах выйти из-под обаяния особенного тембра голоса Шатобриана или Руссо. Таково, возможно, мастерство истинного писателя. Значимее любого содержания, любых излагаемых фактов ритм, тональность, вибрации. Особенное дыхание есть и в «Цитадели». Звучание голоса автора захватывает с первых слов.
Но мы знаем, как мучила Сент-Экзюпери мысль об ущербности современного сознания. Он страдал оттого, что не в силах вернуть своему поколению утраченное понимание человеческой сути. Ему было не до музыки, не до голоса. Не до «бесполезной роскоши». Есть только одна задача, генерал, одна-единственная на целом свете. Возвратить людям духовную жизнь и духовные заботы. Голос, конечно, важен. Но эта задача настоятельнее. Она требование времени. Сложные и многообразные размышления «Цитадели» будут подчинены именно этому устремлению. Им объясняется упрямая верность давнему замыслу. Конечно, этой нелегкой работе послужил отчасти и «Военный летчик», и «Письмо заложнику», и «Маленький принц», ею продиктованы те уроки, которые в них заложены, но целиком и полностью ею будет проникнута «Цитадель». Именно это устремление организует этическое, философское, метафизическое, духовное пространство будущей книги. Но соответствует ли оно той внутренней тональности, какая определяет индивидуальность каждого человека? Нет сомнения, что каким-то образом они будут взаимодействовать. Но не подавит ли поставленная цель внутреннюю музыку? Может быть, она даже уничтожит ее? Похоже, Сент-Экзюпери это мало заботит. Он сосредоточен на одной-единственной мысли. С ней мы уже знакомы, он думает, как вернуть людям «духовные искания». И продолжает развивать свою мысль: «Их нужно омыть мощным потоком песнопения, похожего на григорианское». Наконец-то! Наконец возникла потребность и в голосе, музыка сольется с нравственной задачей, поставленной замыслом, который станет хвалой, воспеванием, песнопением.
Если мы присмотримся, подобное слияние всегда было свойственно Сент-Экзюпери. В восемнадцать лет юноша пишет матери: «Я только что читал Библию: какая мощь слова, какая поэзия. И повсюду торжествует нравственный закон, насущнейший, необходимый». Поэтическая мощь и насущный нравственный закон: подчинение укладу и преодоление уклада – такова в жизни и в поэме потребность человеческой души, не подверженной распаду в отличие от тела.
Ошеломляющая череда событий могла бы заглушить внутреннее песнопение, радикально изменив «Цитадель», направив размышления писателя по совершенно иному руслу, весьма не похожему на первоначальный замысел. «Поэму» могло бы заместить «Рассуждение о методе», которого настоятельно требовало время, или «Трактат о терпимости», тоже крайне необходимый ввиду кипения ненависти и остракизма. Но нет, ничего подобного не случилось. Безусловно, по сравнению с первым вариантом новая версия стала звучать более жестко. Но музыкальная тональность, волны которой несут размышления, остается прежней. Мировая распря лишь обострила в писателе жажду духовной жизни, столь же органично присущую ему, как внутренняя музыка, тональность, тембр голоса, и он со страстью погружается в проблемы этики. Разве в Библии этика отделена от поэзии? Разве они мешают, противоречат друг другу? Эти два потока всегда слиты и у Сент-Экзюпери. Они всегда питают его вдохновение. Не нарушая единства книги, не мешая друг другу, а помогая, они сливаются в единое целое, изобильное, многообразное, настоящий оркестр. Стиль меняется, повествование переходит из регистра в регистр. Генералов «дотошных и недалеких» сменяют немногословные друзья-садовники, суровый тон, повествующий о трех тысячах берберах-беженцах, становится прочувствованным и трогательным, когда речь заходит о больном ребенке Ибрагима, место находится и для язвительной насмешки, и для торжественного гимна, слову всюду вольготно, оно всегда органично. А как разнообразны сюжеты! Нельзя не отдать должное живописным частностям, с помощью которых так выпукло обрисованы общие для всех проблемы, хотя речь идет о маленьком экзотическом народе. Вышивальщицы, расшивающие пелены, чеканщики, украшающие медные кувшины, – важны и как житейские фигуры, и как своеобразные архетипы, они и бытовые персонажи, они и образы, иллюстрирующие размышления. Трудно не запомнить суровых прокаженных, странствующих на лошадях, хромого бродягу, молча ожидающего участия, юную женщину, приговоренную к гибели среди песков. Как красноречиво они свидетельствуют о варварстве живущего в пустыне племени, и вместе с тем они реальны в той же мере, в какой реален несчастный слон, заживо проглоченный боа-констриктором, в «Маленьком принце». А сколько еще красочных фигур участвуют в плетении ткани «Цитадели»! А как пестр веер притч, сочетающих точность мгновенных зарисовок с дерзновенной иронией символа! Как они разнообразят и украшают чтение, заставляющее одновременно проникаться чувством и сохранять аналитическую дистанцию, впитывая произведение во всей его полноте.



