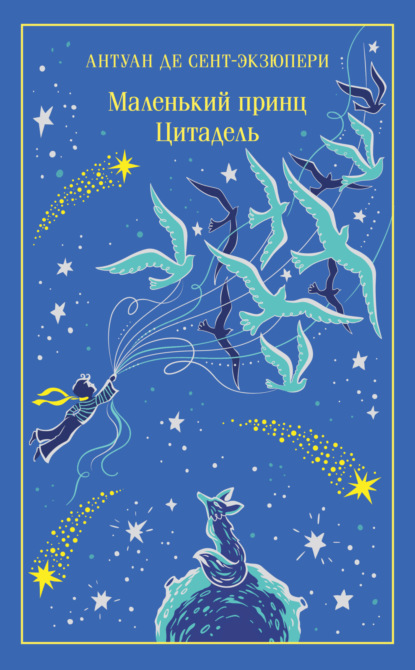
Полная версия:
Маленький принц. Цитадель
Богатство многообразия течет полноводным потоком и не иссякает. Читать «Цитадель» – значит позволить нести себя «рекам красноречия», как говорит Сен-Жон-Перс. Рекам, или, скажем менее метафорично, дыханию. Оно будит эхо в пещерах природной породы, учащается, замедляется в зависимости от материи повествования, выравнивается на удачных картинах и отточенных формулировках и, вновь обретая мощную силу ветра, стремит вперед неистощимое разнообразие произносимого с неиссякаемым монотонным величием. Такого рода стиль неизбежно пользуется инструментарием риторики, так как она органичнее всего передает присущий человеку внутренний ритм. Отличительная черта такого стиля – языковой тик: маниакальные повторы при многословии, которое сродни потоку звуков и аккордов начала симфонии, – потом они выстраиваются, становясь потоком смысла. Короткий речитатив здесь, страстная ария там, едва слышный шепот, язвительный смех – сколько разных голосов звучит у нас в памяти… Эти голоса вовсе не голос Сент-Экзюпери. Сам он именно дыхание, потому что нуждается в мощном словесном пространстве и всевозможных откликах эха.
Мысль, которую несет этот разнообразный словесный поток, одна. И сводится она к нескольким настойчивым требованиям. Картина мира рухнула, сознание разорвано, и поэтому нужно во что бы то ни стало вновь вернуть те гуманистические ценности, которые не сумели преградить путь варварству. Европа потерпела крах, лежит в обломках, но нужно возродить тот коллективизм, то структурированное общество, которое рассыпалось в прах при первом же нажиме. «Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается». Но заблуждается не только жалость. Мы заблуждаемся и относительно обожествленных нами ценностей, для нас они по-прежнему вне подозрений, но со временем мало-помалу искажаются, и госпожа История дает нам понять, как они хрупки. Обеспокоенная мысль Сент-Экзюпери течет по двум направлениям – с одной стороны, его беспокоит духовность, которую утрачивают люди, с другой – принципы, лежащие в основе властных структур, и сфера воздействия власти. Нет ничего безусловного. Как изменчив стиль, так изменчивы и размышления, средоточием которых и целью остается человек, все стекается к нему и вновь разбредается в разные стороны, чтобы объединиться в Боге, высшей точке иерархии, воплощении мудрости, где снимаются все противоречия, в этом образе без образа, подобие которого человек, в этой улыбке, которой становятся все лица, узнавая друг друга: «Что мне за дело, что Бога нет, Бог наделяет божественностью человека». И опять безграничное пространство, где перетекают ценности, утверждаются структуры и перекликается эхо разных голосов.
Мы осветили причины возникновения и особенности стиля и размышлений «Цитадели». В достаточной ли мере они помогут этому произведению? Разумеется, от всех нареканий они его не защитят. Как переубедить, например, нетерпеливого читателя, предлагая ему текст, во много раз превосходящий привычные объемы и лишенный какой бы то ни было интриги? Обучение юного принца, наследующего власть отца, открывающего для себя опасности и одиночество властителя, подвигает на размышление, но не рождает взволнованной заинтересованности, какая возникает при погружении во вселенную Пруста. «Моя поэма», – говорил Сент-Экзюпери о своем творении, когда оно еще оставалось безымянным. В «В поисках утраченного времени» невозможно увидеть поэму, это роман. Бодлер, пользовавшийся прозой, чтобы писать стихи, знал, что поэма в прозе должна быть короткой. «Цитадель», хоть и строится как рассказ, распадается на множество не связанных одна с другой историй, которые возбуждают не любопытство, не интерес, а восхищают красотой и значимостью; объединяет их, конечно, единство мысли автора, но между собой они соотносятся примерно так же, как стихотворения в прозе, объединенные в один сборник. Признаем честно: для большинства читателей Сент-Экзюпери чтение «Цитадели» от доски до доски – тяжелое испытание. Еще более тяжким его делают повторы одних и тех же тем, навязчивые возвращения к одним и тем же вопросам. Можно ли помочь читателю в его нелегком труде? Поспособствовать, чтобы он не бросил книгу, испугавшись истощения сил, которым грозят ему двести девятнадцать глав этого произведения?
Можно ли облегчить книгу? Предприятие сродни иконоборчеству. Кто может позволить себе встать на место Сент-Экзюпери и начать распоряжаться его поэмой? Единственный аргумент, который можно выдвинуть в этом случае, – тот, что произведение не завершено… Но это не убедительный аргумент. Мы оставили нашего автора с его обширной «поэмой» в Соединенных Штатах. Мы встретимся с ними обоими в Северной Африке. Работа продолжается. Но это вовсе не отделка нескольких глав, которые завершат произведение. И все-таки произведение завершено. Нет сомнения, что притчу о двух садовниках, проникновенную и сдержанную, Сент-Экзюпери предназначил для завершения своего творения. Нет сомнения, что последние слова, обращенные к Господу: «Ты узел, что связал воедино несхожие деяния», – и были последними в «Цитадели». Конец ее столь же решителен и неоспорим, как начало. И вместе с тем Сент-Экзюпери постоянно повторял, что его книга никогда не будет закончена. Что он имел в виду? Конечно, не то, что она останется брошенной на середине дороги с повисшей в воздухе последней фразой. Последняя фраза найдена, это очевидно. Место последней главы неоспоримо, но этого не скажешь о других главах в середине книги. Обилие персонажей – рожденные прихотью то памяти, то фантазии, они сменяют друг друга беспорядочной чередой, которая кажется порядком лишь потому, что в таком порядке они появляются на шахматной доске. Обилие понятий – ясные и уместные, они становятся все более неясными и противоречивыми по мере того, как их подчиняет себе нарастающая волна беспокойства и тоски, которая так и не рассеется, уничтожив первоначальный план книги. План, впрочем, всегда лишь «карикатура на жизнь». Точное определение работы, которая не может быть завершена, дана в самой «Цитадели» (глава 133), когда рассказчик говорит: «Стихотворение я написал. Осталось его поправить», и отец принца песков, постоянный его собеседник, уточняет: «Поправки и есть мои шаги к Господу».
Само собой разумеется, никто бы не смог сделать вместо Сент-Экзюпери очередной шаг к Господу. Но вместе с тем совершенно очевидно, что объем этого произведения связан, с одной стороны, со свободой дыхания, которую позволил себе автор, а с другой – с бесконечными повторами основных тем: Сент-Экзюпери без конца возвращается к тому, что считает первоочередным и важным, не может его исчерпать, ищет все более точных выражений для своей мысли, все более удачных формулировок. Особенность дыхания, тон ощущается с самых первых страниц. Триста страниц проникнуты им так же полно, как шестьсот. Что же касается взглядов автора, утверждение им в качестве особых ценностей тех понятий, которые до поры до времени таковыми не считались (например, произвола), или подчеркивание особой ценности других (например, совершенства), то топтанье вокруг них, насыщение ими текста скорее утомляет, чем убеждает. Читателя изматывает повторение почти одного и того же, почти в одних и тех же словах, тогда как можно было бы ограничиться одной версией. Поправлять в данном случае – значит, без всяких сомнений, подрезать ветки этого дерева – «моего дерева», как говорил Сент-Экзюпери, – потому что его изобильная крона с трудом пропускает свет.
Конечно, мы понимаем и то, что Сент-Экзюпери мыслил себе чтение «Цитадели» – позаимствуем у него еще одну метафору – как «странствие по незнакомым угодьям» (глава 148). «Странствовал я неспешно, лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены. И у меня появилось ощущение, что дорога моя с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и задаром растраченным временем была своеобразным обрядом, была залом, где дожидаются аудиенции короля, была нащупыванием черт властелина, и каждый, кто следовал ею в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того не ведая, упражнялся в любви». И все-таки было бы, наверное, неплохо, если бы лошадь спотыкалась пореже и не так часто предавалась чревоугодию. Лицо властелина вряд ли изменится, если нащупывание его займет чуть-чуть меньше времени, чем отводит на него автор, которому, верно, не составило бы труда немного сократить дорогу. И в сокращенном варианте «Цитадели» останется достаточно фантазий, вдохновения и неожиданностей, чтобы упражнение в любви не превратилось в гонку по жесткому расписанию.
Путешествия в тряской тележке или на ленивом ослике – роскошь, которую не может себе позволить большинство современных читателей. Поэтому выбор прост: или позволить читателям воротить нос от произведения, которое они не в силах переварить, и тем самым лишить их размышлений автора и его несравненного голоса, или предложить им более приемлемую версию книги. Мы выбрали второй путь. Он предполагает решимость и отвагу.
Существует мнение, и его часто повторяют, что, вернись Сент-Экзюпери благополучно из своего фатального полета (можно подумать, что за ним не последовал бы другой!), он бы отредактировал свой текст и значительно бы его облегчил. Но согласимся, что это всего лишь предположение. В том, что он собирался работать над своим произведением, сомнения нет, он сам часто говорил об этом. Но в каком направлении? В смысле сокращения излишеств? Безусловно. Они настолько очевидны, что внимательное чтение наверняка их не пощадило бы. Но мы не можем забыть об оставленных там и здесь пометках «заметка на будущее», предполагающих новые размышления, новые главы. Вполне возможно, что после переработки произведение не только не сократилось бы, но, наоборот, стало бы еще объемнее. Кто знает? Может быть, увлеченный своей «поэмой» Сент-Экзюпери сделал бы ее совершенно нечитаемой, уподобившись Френхоферу, герою «Неведомого шедевра» Бальзака. Единственный вывод, который следует из наших противоречивых предположений, сводится к тому, что мы не можем угадать, что сделал бы со своим произведением автор, останься он в живых. Нам неведома его логика. Медленный обход «замка моего отца» (глава 205) – это тоже приобщение читателя к медленной прогулке по «обиталищу запахов» «Цитадели». «Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную». Каким путем повел бы он нас по своему дворцу – коротким? Минуя анфиладу приемных? Или открыл новые покои, необходимые или бесполезные, потому что очень любил пространства, которые ничему не служат?
Предпринимаемое нами сокращение никак не связано с незавершенностью симфонии. Это всего-навсего попытка помочь читателю, который, испугавшись объема произведения, может лишить себя очень важного чтения. Посягнув на страницы Сент-Экзюпери, мы наложили на себя следующие ограничения. Во-первых, сохранили порядок глав. Может быть, было бы более педагогично сгруппировать главы по темам – рассуждения о справедливости. О равенстве. О свободе… Отчетливость мысли выиграла бы от этого. Но педагогика печется о детях, а наши читатели уже вышли из детского возраста. Да и, пожалуй, такая попытка походила бы на попытку навести порядок в Библии, собрав сначала все «а», потом все «б»… сделав из нее «книгу для генералов». Наши читатели не генералы. Во-вторых, прибавим, что мы уважительно отнеслись не только к последовательности изложения, но и к каждой фразе, каждому слову. Наше вмешательство было только сокращением, купюрами, но никогда не изменением.
Однако когда отрубаешь ветку у дерева, отрубаешь ее всерьез. Так что же рубить? Каким образом сокращать? Перечислю, чем мы руководствовались, когда делали в тексте купюры. В первую очередь мы изъяли повторы тех тем, которые уже были достаточно ярко изложены. Нам могут возразить, что повторов как таковых не существует, что иное выражение той же самой мысли выявляет в ней дополнительные нюансы, открывает с другой стороны… Но это возражение специалиста-филолога, которому нужны все варианты и все наброски. А мы? Будем честны: кто из нас не страдал от затянутого произведения? Вот об этих читателях мы и позаботились, постаравшись сохранить из веера разных формулировок те, что показались нам самыми исчерпывающими. Мы старались также не упустить нюансов этих размышлений, сохранить образы, истории, притчи. Нам кажется, что значима «Цитадель» своими рассуждениями, но главное ее обаяние – в присутствии живого дыхания жизни, в сочных метафорах, в разнообразии персонажей, коротких рассказах, похожих на вспышки света в толще сумеречной эпохи. Изящный костяк мысли одет соблазнительной плотью, согрет горячей кровью, освещен блеском глаз, чарующей улыбкой. Совмещение мысли и поэзии было для нас столь очевидным, что мы отказались от традиционного «указателя главных разделов», предполагающего перечисление основных понятий и ключевых тем. Как им можно было бы пользоваться, когда, например, понятие «любовь» встречается в таких разных контекстах? Или что, например, делать с понятиями «жилище», «царство», «дом», синонимичными, но наполненными таким разным содержанием? Поэтому мы ограничились кратким списком историй и притч. Читателю важнее, улыбнувшись, погоревать о веснушчатом рыжем мальчишке и его брате-капитане или сынишке Ибрагима, чем, надрываясь, искать абзацы, где упомянута любовь или смерть.
Купюры были сделаны в тексте некоторых глав. Часть глав была изъята целиком. Для того чтобы было видно, какие главы изъяты, мы сохранили последовательность нумерации оригинала. Нам показалось, что подобное решение облегчит при желании обращение к полному тексту, но сами проложили для читателя броды. (Например, от главы 33 сразу перешли к 39.) Публика должна знать, что это не небрежность, а сознательно принятое решение. И разве Реверди не считал, что читать поэму все равно что переходить через реку вброд? Случается, что проложенные нами броды требуют слишком широкого шага. Но в потоке достаточно воды, чтобы она журчала вокруг камней, чаруя ухо читателя.
Мишель Кемель
1
…Ибо я слишком часто видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.
В юности, когда я увидел гноящиеся раны нищих, я пожалел их. Я нанял для них врачей и целителей, стал покупать примочки и мази. Караваны везли мне из дальних стран золотой бальзам для заживления язв. Но мои нищие расковыривали свои болячки и смачивали их навозной жижей, – так садовник унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, – и тогда я понял: смрад и зловоние – сокровище попрошаек. Они хвалились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кто получал больше монет, чем другие, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили нищие к моему целителю, заранее предвкушая, как изумится он обилию их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки – поклонением. Но, исцелившись, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, – бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И, вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плошками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.
Во времена моей юности я сочувствовал умирающим. Мне казалось, обреченный мной на погибель в пустыне умирает, изнемогая от безнадежного одиночества. Я еще не знал, что в смертный час не до одиночества. Не знал о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого потраченного гроша, собирает в последний свой час домочадцев и оделяет их с безразличием справедливости, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь уже не о себе – о товарищах. Как восхищает всех подобная самоотверженность. Но это не самоотверженность, это пренебрежение и безразличие.
Я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий от голода отказался от корки хлеба. Они уже отстранились от телесных надоб и с царственным безразличием отодвинули кость, в которую жадно вгрызутся живые. Правду о себе смерть открывает только своим избранникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них – инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело – незначащая часть обширного имения, вроде осла на привязи во дворе.
Все, кто живы, – я знаю, – боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий.
Так за что же жалеть их? О чем плакать у их изголовья?
Я знаю, сколько преимуществ у мертвых. Я видел, как рада была умереть молодая пленница. Мне было шестнадцать, я многое понял, глядя, как она умирала. Когда ее принесли, она уже отходила, кашляла в платок и, как загнанная газель, дышала часто и прерывисто. Но не смерть занимала ее, она силилась улыбнуться. Улыбка реяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежный лебедь.
День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетел в небо, оставив след – ровную полоску губ.
А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита.
Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная бренная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва – царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре в царской опочивальне слуги нашли преступника, он стоял на коленях перед мертвым царем.
Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как гроб был опущен в землю, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем, и, опуская его на скрипучих веревках в землю, мы знали, что заботливо укрываем нажитое, а не хороним мертвеца. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас.
От отца я узнал, что такое смерть. Он заставил меня посмотреть ей в лицо, когда я был еще ребенком. Он и сам ни перед чем не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.
Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце растило пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творения и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.
Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.
Сбившись с тропы, караваны попадали в зеркальную ловушку. Ловушку, которая никогда не выпускает добычи. Но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не менялось. Вот только жизнь становилась призрачной. Становилась тенью, отброшенной беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется вперед; переселялся в вечность, но считал, что живет.
Погонщики торопили верблюдов, но разве можно превозмочь бесконечность? Они спешили к колодцу, которого не было, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада – отсрочка, которая им ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что ночь никак не наступит… Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц, пока они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.
Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..
Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне, что такое смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался песок.
– Здесь, – сказал мне отец, – был когда-то колодец.
Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада.
К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками – золотые слитки, и все это припорошил песок.
Я смотрел, отец говорил:
– Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?
Неграмотный, – продолжал он, – подержав в руках и перелистав священную книгу пророка, посмотрев на искусную вязь букв, миновал суть. Суть книги не в тщете зримого – в Господней мудрости. И не воск, который плавится и оставляет потеки, главное в свече – сияние света.
Но мне стало страшно, я испугался пиршественного стола Бога с остатками жертвенной трапезы. И отец сказал:
– О главном не говорят при помощи праха. Не медли над мертвецами.
Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.
– Но где же искать мне главное? – закричал я отцу. И отец ответил:
– Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее; скала – он огибает ее; если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И, выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление – вот для него опорный камень на невидимом склоне.
Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: накажет ее солнце, бичуя нежную оболочку плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.
– Сейчас ты поймешь, что для человека главное, – сказал мне отец.
И вот я опять у него в седле.
Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз.
Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, – виновная взывала к милосердию Господа.
– Послушай ее, она говорит о главном, – сказал отец.
Но я был мал и потому малодушен.
– Как она страдает! – сказал я. – Как ей, наверное, страшно…
– Страдает и страшится стадо, укрытое в хлеве, – ответил отец. – Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.
Я вслушался в ее плач.
Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего, здесь, на пустынной равнине, славила знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает небытие: шерстяную кудель, чтобы прясть ее, грязную миску, чтобы вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.



