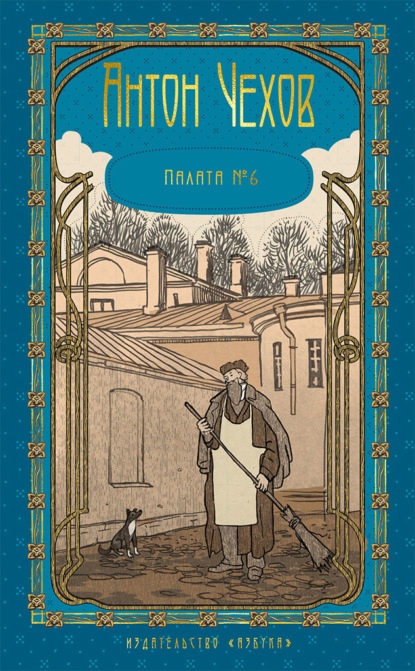
Полная версия:
Палата № 6
Именно дьякон фактически спасает Лаевского (и душу фон Корена), прерывая так страшно начавшуюся дуэль. Характерно, что в характерах обоих есть что-то простодушно-детское. Свой добрый ангел есть в «Моей жизни»: тайно и безнадежно влюбленная в Мисаила Анюта Благово.
Но такими, пожалуй, нельзя стать, а можно лишь остаться, сохранив в себе детское ощущение мира, давным-давно утраченное в сумерках среди хмурых людей и безрадостных обстоятельств.
Финалы чеховских повестей, как правило, открыты и строятся в сложном переплетении веры и неуверенности, скептицизма и осторожной надежды.
«Прощай, мой сокровище!» – произносит знающий о своей близкой смерти профессор, только что признавшийся в жизненном крахе, в отсутствии в его вроде бы удачно сложившейся жизни «того, что называется общей идеей, или богом живого человека». (В двадцать восемь лет Чехов смотрит на мир с точки зрения шестидесятидвухлетнего профессора, в сорок четыре – напишет о двадцатитрехлетней девушке-невесте.)
Умирая, в очередной раз поверив лукавому призраку-двойнику с его идеей избранничества, магистр философии Коврин «звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна».
Доктору Рагину перед смертью тоже дано увидеть стадо красивых и грациозных оленей, призрак гармонии, который, впрочем, сразу же сменяется жестоким напоминанием о покидаемом мире: бабой с письмом и какими-то словами Михаила Аверьяновича.
Особенно очевидно это «уравнивание плюсов и минусов» в рифмующихся «сократических» концовках «Огней» и «Дуэли». Вечерний спор завершается безрадостной сентенцией инженера Ананьева, сравнивающего мысли с огнями: «Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то – далеко за старостью… Однако довольно философствовать!»
Пасмурным утром эту логику подхватывает на другом метафорическом языке свидетель-рассказчик: «Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными, глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал: „Ничего не разберешь на этом свете!“ А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: „Да, ничего не поймешь на этом свете!“» Однако последняя фраза будто напрашивается на противоположное символическое прочтение: «Стало восходить солнце…»
Солнце неназванной истины рассеивает ночные потемки и утреннюю серость.
В рефлектирующем финале «Дуэли», напротив, возникает осторожная надежда: тот же образ огней приобретает противоположный смысл. «„Да, никто не знает настоящей правды, – думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. – Лодку бросает назад, – думал он, – делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни… В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…“ – „Проща-а-ай!“ – крикнул Самойленко. – „Не видать и не слыхать, – сказал дьякон. – Счастливой дороги!“»
Но последняя пейзажная деталь вносит в это «быть может, доплывут» каплю скепсиса: «Стал накрапывать дождь».
Начало идеологической линии чеховской прозы совпало с работой над романом. Последняя идеологическая повесть появилась в 1896 г., хотя впереди было еще семь лет жизни.
Возможны разные объяснения этого феномена. Философскую, идеологическую проблематику могла наследовать чеховская драма (как раз в 1896 г. появляется «Чайка»). Таковы заочная полемика об искусстве Треплева и Тригорина, философские монологи Астрова в «Дяде Ване», диалоги Вершинина и Тузенбаха в «Трех сестрах», спор о гордом человеке в «Вишневом саде».
Но возможно и иное. Основные идеологические веяния эпохи были представлены Чеховым в лицах и выставлены на обозрение. Споры русских марксистов с народниками и религиозных философов с марксистами он едва застал и оставил изображать другим.
Итог оказался печальным. Чехов был, вероятно, первым большим русским писателем, жившим в эпоху «конца идеологий» и отчетливо осознавшим это как историческую неизбежность. «У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь» (А. С. Суворину, 25 ноября 1892 г.; П 5, 133). Для философа жизни, «индивидуализирующего каждый отдельный случай», итог и не мог быть другим.
Но число идей в мире всегда меньше, чем число людей. И он предпочел снова сосредоточиться на людях.
«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям, – интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д., и т. д. – и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse <в массе> и несмотря ни на что» (И. И. Орлову, 22 февраля 1899 г.; П 8, 101).
Если это и утопия, то – одна из самых трезвых, позволяющих сохранить какую-то надежду даже в безнадежной ситуации.
Таким отдельным человеком, символом веры в эпоху fin de siecle, неожиданно оказался и он сам.
Странная роль: учитель жизни
Зачем люди читают книги? Если отвечать коротко – чтобы забыться или понять.
В книгу бросаются, как в омут, спасаясь от пугающей, непонятной жизни (если, конечно, для этого остаются желание и силы), или же смотрятся, как в зеркало, пытаясь узнать в неожиданном право-левом обороте собственные черты лица и застигнутую врасплох другую жизнь.
И в том, и в другом случае книга помогает жить. Но – по-разному. Писатель либо берет на себя роль терапевта-утешителя, навевающего человеку «сон золотой», либо строгого учителя, ментора, открывающего ему глаза, говорящего горькие истины.
Наша культура – так уж исторически сложилось – всегда предпочитала второй, зеркальный путь. «Традиционное место церкви как хранителя истины заняла в русской культуре второй половины XVIII в. литература, – замечает Ю. М. Лотман. – Именно ей была приписана роль создателя и хранителя истины, обличителя власти, роль общественной совести. При этом, как и в Средние века, такая функция связывалась с особым типом поведения писателя. Он мыслился как борец и праведник, призванный искупить авторитет готовностью к жертве. Правдивость своего слова он должен был гарантировать мученической биографией»[9].
В литературе XIX в. от Пушкина («Пророк») до Толстого и Достоевского эта традиция была определяющей. «Она <русская литература> стоит на крови и пророчестве», – подводил итог В. Ходасевич[10].
Чехов смотрит на такую роль писателя со смешанным чувством зависти и восхищения. «Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! – повторял он не раз. – Литература? – И литература»[11] (воспоминания И. Бунина).
Но в себе и писателях своего поколения Чехов не чувствовал толстовской силы и решительности учить мир, обращать его в свою веру. «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные – Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше ни тпрру ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте» (А. С. Суворину, 25 ноября 1892 г.; П 5, 133).
Причины такого отсутствия «капли алкоголя» лежат, по Чехову, в истории. Жизнь настолько усложнилась, некоторые из прежних идеалов так дискредитировали себя, истина так многообразна, что было бы грандиозным самомнением претендовать на абсолютные ответы.
Поэтому высоким титулам поэта-пророка, «глаголом жгущего сердца людей», или писателя-учителя, страстно обличающего общественные язвы, Чехов предпочитает скромное звание литератора, беллетриста, сделанного из того же теста, что и его читатели, и по мере сил исполняющего свой долг (на эту тему и написана, еще в юности, иронически-исповедальная «Марья Ивановна»). Литератор – не хранитель, а со-искатель истины, владеющий словом и образом, собеседник разговора наедине. «Вы спрашиваете: следует ли, написав рассказ, читать его до напечатания? По моему мнению, не следует давать никому читать ни до, ни после. Тот, кому нужно, сам прочтет, и не тогда, когда Вам хочется, а когда ему самому хочется» (Б. Лазаревскому, 30 января 1900 г.; П 9, 37).
Он стал таким интимным, близким собеседником, «нашим Антошей Чехонте» (В. Розанов) для целого поколения, часто более важным и понятным, чем «большая классика» с ее напряженным, экстатическим пафосом, проповедью и пророчеством.
Один из современников, его знакомый, журналист и врач В. А. Поссе, вспоминал о своем чтении публичной лекции о Толстом и Достоевском уже после смерти Чехова: «Ко мне явились гимназистки старшего класса местной гимназии и просили прочитать лекцию о Чехове. Но я отказался, откровенно заявив, что Чехова я читал, но не изучал. Они очень огорчились и, уходя, добродушно сказали: „Вы уж, пожалуйста, Чехова хорошенько изучите, он нам гораздо ближе Достоевского и Толстого“»[12].
И сам «великий Лев» временами ревниво замечал, что его поздняя общественно-философская проповедь, его попытки открыть всеобщую истину и профессору, и мужику, и императору, и России, и всему миру вызывают не такое понимание, как вроде бы ни на что, кроме художества, не рассчитанное чеховское слово.
«И теперь уже получил два письма от революционеров, – записывает Д. П. Маковицкий в августе 1905 г. слова Толстого. – Один цитирует Чехова. „Надо учиться, учиться науке спасения“. Искусственная, насилу придуманная фраза, которой он, Чехов, закончил какой-то рассказ. (Вероятно, речь идет о финале рассказа „Убийство“, где сказано: „…хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день“. – И. С.) Они видят в Чехове… таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они – молодежь – учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин»[13].
Всячески избегая этой роли, не претендуя на нее, в сознании многих на рубеже веков – от гимназистов до философов – Чехов все-таки стал не литератором, но – писателем, нравственным оправданием и опорой. Для людей «чеховского поколения» Евангелие от Антона было более личностно значимо, чем толстовская нравственная проповедь.
«Для меня Чехов – самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову, любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым и, для нашего поколения, во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних»[14].
Один отчаянный писатель-поклонник – уже в ХХ в. – противопоставил его ни более ни менее как Иисусу Христу. Спаситель все-таки был авторитарен, а Чехов учил незаметно, неявно, лишь примером собственной жизни.
В дневнике Толстого есть и еще одно, свободное от раздражения, определение, данное Чехову сразу же после его смерти, в июле 1904 г.: «Художник жизни»[15]. Понять его можно, пожалуй, в двух не совсем совпадающих смыслах.
Чехов был не просто замечательным писателем-художником, Нестором – летописцем русской жизни конца XIX – начала XX в. (Е. Замятин), но художником собственной жизни, которую с первого осознанного мгновения и до последней минуты построил как доказательство некой трудно формулируемой нравственной теоремы, философской максимы.
Незаметным, но громадным трудом, сосредоточенным усилием он доказал эту теорему с такой наглядностью и убедительностью, что можно только повторить его собственные слова, сказанные о Пржевальском: «Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав» (16, 237).
И. Н. СухихПовести{1}
Огни{2}
За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.
– Никого нет… – сказал Ананьев, когда мы вышли. – Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!
Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.
– Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? – сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. – Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, – сказал он, обращаясь ко мне, – удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.
– Да, деликатный пес… – подтвердил студент.
Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»
Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, – весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.
Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза, – вероятно, окна какого-нибудь барака, – и длинный ряд таких огней, становясь всё гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки…
– Экая благодать, господи! – вздохнул Ананьев. – Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит…
Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сантиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутливом тоне:
– Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как всё это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и – закипит машина! А?
Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:
– Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом{3}. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.
– Пожалуй… – согласился инженер.
И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи…
– Да, – пробормотал студент в раздумье. – Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!
– А вы эти мысли бросьте… – сказал инженер серьезно и наставительно.
– Почему?
– А потому… Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.
– Почему же? – повторил студент.
– Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастие! Несчастие! – повторил Ананьев и махнул рукой. – По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!
– Господи, да почему же они анафемские? – спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, нисколько не интересует его.
Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счеты и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.
От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке»{4}, подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.
Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет»{5} и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретается порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины{6} и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи… Его загорелое толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой…» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску{7}, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.
Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет 23-24. Только одни русые волосы и жидкая бородка да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов{8}, всё же остальное – имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навыпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счеты проверял машинально и всё время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень… Он глядел так, как будто бы для него было решительно всё равно, горит ли перед ним огонь или нет, вкусно ли вино или противно, верны ли счеты, которые он проверял, или нет… И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Всё это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда… Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает… Стало быть, и толковать нечего…»
Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расходившегося добряка-дядьку. Казалось, что всё сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.



