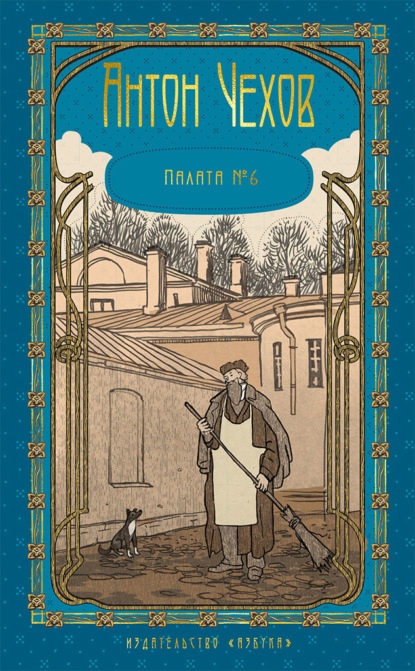
Полная версия:
Палата № 6

Антон Чехов
Палата № 6
© И. Н. Сухих, составление, предисловие, 2010, 2024
© А. Д. Степанов, комментарии, 2010, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Рассказы из жизни моих друзей
Идеологические повести
Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности.
А. Чехов – А. Суворину, 8 сентября 1891 г.Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.
А. Чехов. Записные книжкиДве философии: мыслитель или не мыслитель?
Спор о роли мысли, идеологии в чеховских произведениях и, соответственно, о способности к философской мысли их автора начался давно. Разменной монетой современной Чехову критики было убеждение в том, что никакого мировоззрения, никакой «общей идеи» у Чехова нет. Слова героя «Скучной истории», отождествляя его с самим Чеховым, десятки раз повторили многие – народники-либералы и консерваторы, «властитель дум» Н. К. Михайловский и безвестные газетные рецензенты.
Сразу после смерти писателя С. Н. Булгаков, уже преодолевший путь от марксизма к православию, прочел лекцию и опубликовал статью «Чехов как мыслитель»[1]. И мгновенно получил обескураживающий ответ: «Если бы я был на месте г-на Булгакова и писал бы статью на тему „Чехов как мыслитель“, я бы ограничился пятью словами: Чехов совершенно не был мыслителем»[2].
Логику таких оценок-приговоров Чехов с насмешкой продемонстрировал в «Учителе словесности». «Какой же Пушкин психолог? – рассуждает „умная и образованная“ Варя, которая никак не может выйти замуж. – Ну, Щедрин или, положим, Достоевский – другое дело, а Пушкин великий поэт, и больше ничего… Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи, и больше ничего» (8, 314–315)[3].
«Ну какой же Чехов мыслитель? – серьезно повторяли многие критики, – талантливый (или не очень, в зависимости от убеждений и высоты мировоззрения самого критика) писатель, и больше ничего». Еще в 1920-е гг. школьникам рекомендовали писать сочинения на тему: «Почему к Толстому приложимо имя учителя жизни, а к Чехову не приложимо?»
Но при жизни писателя и, особенно, после его смерти постепенно набирало силу другое представление о Чехове: мир писателя вовсе не «случайностен», его взгляд на действительность не эмпиричен – за мозаикой повестей и коротких рассказов, многообразием героев стоит большая и глубокая мысль о мире, общая идея особого свойства, однако вполне сопоставимая с идеями Толстого, Достоевского, всей большой русской литературы.
Впервые, пожалуй, об этом четко сказал Горький в понравившейся Чехову статье о повести «В овраге»: «Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нем… У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, – он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения»[4].
Чуть раньше Горький написал самому Чехову о «Дяде Ване»: «Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений – Ваши делают это»[5].
Парадокс, однако, в том, что «мировоззрение», «общие идеи», «веру» постоянно отрицал сам Чехов.
«Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно…» (Д. Григоровичу, 9 октября 1988 г.; П 3, 17).
Но подобные автохарактеристики нельзя воспринимать в прямом, буквальном смысле. Они нуждаются в интерпретации. Ведь одновременно Чехов говорит и так: «Попы ссылаются на неверие, разврат и проч. Неверия нет. Во что-нибудь да верят…» (П 3, 209).
Под общей шапкой философии можно увидеть две существенно различающиеся тенденции, две системы мысли.
«Внутри древнегреческой философии, – замечает историк философии, – обозначилось… разграничение, также ставшее в позднейшей истории одной из важнейших проблем философии. С одной стороны, философия как хранительница знания начинает систематизировать накопленное знание, классифицировать его, исследовать логические законы и категории познания и т. п. Такой философия предстала у Аристотеля. С другой же стороны, в философии проявляется и такая линия, которая в большей или меньшей степени индифферентна к „рационализированному“ знанию, если выразиться современным языком. Свои основания это направление, получившее позднее имя „философии жизни“ в самом широком, неакадемическом значении этого термина, ищет в самом человеке. Методы философии, в частности диалектика, используются лишь для того, чтобы поколебать устоявшиеся представления и посеять сомнение в их истинности. В то же время эта философия требует от человека самоуглубления и самопогружения, внутренней сосредоточенности и отрешенности от всех внешних атрибутов жизни. Так выявляются два рода знания, равно противополагаемые обыденно-житейским представлениям, равно претендующие на универсальность и общезначимость, но отличные по своим основаниям. И уже в древне-античной философии выявляется одна специфическая особенность второго рода философского знания – оно оказывается, в отличие от строго логичного и формализуемого знания… не поддающимся систематизации, почти невыразимым; знание это объявляется внутренним достоянием каждого отдельного человека, но оно обладает в то же время общечеловеческой и универсальной значимостью»[6].
Этот второй тип философствования, однако, часто отождествляли со здравым смыслом, обыденным сознанием и противопоставляли подлинно философскому, научному пониманию мира (впрочем, в ХХ в. ситуация изменилась). Именно с ним, может быть, наиболее отчетливо среди всех русских классиков связан Чехов.
Если символом первой философии является Аристотель, то идеальным воплощением «философии жизни» и жизни как философствования оказывается Сократ. Апелляция к нему появляется в одном их чеховских писем как раз в то время, когда начинается работа над первой идеологической повестью «Огни»: «Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознавался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем кажется шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж одно это составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед» (П 2, 281).
Чехов ищет такую философию, мировоззрение, веру, которая может быть ориентиром не в абстрактном мире философов, а в конкретном мире людей.
В поисках за правдой: логика цикла
«Авторских философских размышлений нет в сочинениях Чехова. И уж тем более нет их у чеховских героев. Философствовать, обнаруживать силу мысли – просто не в их возможности. Ведь все они – даже самые лучшие благородные люди – очень далеки по характеру своего интеллекта от Рахметова, Базарова, Константина Левина, Ивана Карамазова… Социально-философская проблематика возникает у Чехова как бы мимоходом, исподволь, в окружении случайных, бытовых, обыденных мотивов»[7].
Справедливое во второй части, это суждение вряд ли точно в первой. Герои Чехова рассуждают, философствуют много и на самые разные темы.
«Рассказ выходит скучноватым. Я учусь писать „рассуждения“ и стараюсь уклоняться от разговорного языка. Прежде чем приступить к роману, надо приучить свою руку свободно передавать мысль в повествовательной форме. Этой дрессировкой я и занимаюсь теперь», – признается Чехов в пору замыслов романа «Рассказы из жизни моих друзей» (А. С. Суворину, 28 ноября 1888 г.; П 3, 79).
Словно стесняясь, он разрешает философствовать героям, а себе приписывает лишь рассуждения.
Дрессировка осуществлялась в большом несобранном цикле идеологических повестей, которые оказываются важным звеном чеховского мира-романа. С 1887-го по 1896 г. Чехов почти ежегодно обращается к жанру рассуждений, восемь текстов этого времени выстраиваются в почти непрерывную цепочку: «Огни» (1887), «Скучная история» (1889), «Дуэль» (1891), «Палата № 6» (1692), «Рассказ неизвестного человека» (1893), «Черный монах» (1894), «Дом с мезонином» (1896) и «Моя жизнь» (1896).
Как и в случае с другими жанрами, Чехов незаметно преобразует философский жанр, приспосабливая его к своим потребностям. В этих текстах возникает жанровая модель, повествовательный архетип, последовательно реализуемый в каждом конкретном случае.
Главный герой – интеллигент, иногда пытающийся избежать сословной судьбы (неизвестный человек, Мисаил из «Моей жизни»), но неспособный не размышлять – по привычке, долгу или даже обязанности (хотя профессиональный философ, магистр Коврин, уступает в этом смысле профессору-медику из «Скучной истории»).
Почва, фундамент чеховской повести (в чем ее очевидное отличие от идеологических романов Достоевского) – быт: история любви («Дом с мезонином») или адюльтера («Огни»), осложненная семейными конфликтами («Скучная история», «Моя жизнь»), профессиональными притязаниями («Черный монах»), общественными проблемами («Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека»).
Но бытовая линия сюжета, достаточная для сценок и повествовательных рассказов, дополняется линией идеологической – сценами диалога, спора (в «Скучной истории» – насыщенного интеллектуального монолога). Может показаться, что эти размышления и споры нужны лишь для характеристики героя. «Называется он так: „Скучная история (Из записок старого человека)“, – объясняет Чехов замысел одной из самых важных и одной из первых в этом жанровом ряду повести. – Самое скучное в нем, как увидите, это длинные рассуждения, которых, к сожалению, нельзя выбросить, так как без них не может обойтись мой герой, пишущий записки. Эти рассуждения фатальны и необходимы, как тяжелый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение, и его вилянье перед самим собой» (A. H. Плещееву, 24 сентября 1889 г.; П 3, 352).
Однако за привычной писательской иронически заниженной самооценкой (невозможно представить, чтобы он хотя бы раз воскликнул: «Ай да Чехов! Ай да сукин сын! Ай да молодец!» или гордо произнес: «Сегодня я гений!») скрывалась вполне сознательная установка, длинная собственная мысль. Бытовые диалоги в идеологических повестях перерастают в сокращенные философские повести, Чехов вдруг предстает «Достоевским в домашних тапочках».
Писатель воспроизводит практически весь интеллектуальный репертуар эпохи, распространенные среди современников-интеллигентов формулы жизни: поздненародническую идею терроризма в «Рассказе неизвестного человека» (не случаен первоначальный обобщающий вариант заглавия повести – «В восьмидесятые годы»); теорию «малых дел» в «Доме с мезонином»; близкую Толстому идею опрощения, жизни «трудами рук своих» в «Моей жизни» (характерно, что и здесь Чехов думал об обобщенном варианте заглавия – «В девяностые годы»); философию исключительной личности, вознесенной над толпой и работающей для ее блага, в «Черном монахе»; вульгаризированную философию беспросветного пессимизма, «мировой скорби» в «Огнях», такую же поверхностную позицию скептицизма в «Палате № 6»; мировоззрение мирного «сциентизма» в «Скучной истории» и агрессивного социал-дарвинизма в «Дуэли».
Всякий раз исследование очередной «общей идеи» ведется сходным образом. Она не оспаривается прямым логическим путем, сомнению подвергается жизненная позиция исповедующего ее героя; таким образом, идеологическая линия сюжета поверяется и разрешается опять-таки в области бытовой.
Оппонентами-протагонистами, вступающими в непримиримый идеологический спор в «Палате № 6», становятся пациент и врач, чиновник Громов и доктор Рагин.
Громов действительно заболевает манией преследования и попадет в психиатрическую больницу провинциального городка вполне заслуженно. Но в ходе диалогов с Рагиным он производит на доктора впечатление единственного «умного и интересного человека», встреченного за двадцать лет.
Рагин – очередной чеховский вариант Обломова, в руках которого оказывается, однако, не только собственная жизнь, но и судьбы других людей. «Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право». Поэтому царем и богом в психиатрической палате становится не доктор, а тупой и жестокий сторож Никита, убежденный в том, что «их (больных. – И. С.) надо бить».
Каждый человек – домашний философ. Но эта практическая философия, в отличие от профессиональной, формируется особым путем: она вырастает из собственного опыта и обычно служит оправданием (самооправданием) уже сложившегося образа жизни. «Мы живем под принудительной силой реальности»? Если это так, проще и спокойнее обосновать сложившийся порядок вещей, чем выступить против него.
Флегматичный, уклончивый, обходительный Рагин уверен, что он ничего не может изменить в сложившихся в больнице порядках, но, если бы и мог, вряд ли бы стоило это делать. «Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, что какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять – десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие».
Философских союзников Рагин находит в стоиках (они прямо упоминаются в тексте) и Шопенгауэре (параллели с его философией «мировой скорби» не раз проводили исследователи). Понимающего собеседника – в почтмейстере (даже его профессия навевает гоголевские ассоциации), который, по мере фабульного развития, за маской забавного пошляка обнаруживает холодный оскал вора и мерзавца.
Обрушивает успокоительные идеологические построения как раз сумасшедший Громов. «Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо – все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. ‹…› Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь… Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь.
‹…› Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете на все горло!»
Судьба Рагина складывается как раз по этому предсказанию. Ограбленный почтмейстером и отправленный с помощью своего бывшего помощника Хоботова в ту самую палату, над которой он начальствовал много лет, впервые испытавший на себе силу кулаков сторожа Никиты, – он наконец получает возможность проверить учение стоиков на практике.
«Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. ‹…› От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что точно такую же боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят».
Итоги проверки философии на практике беспощадны: первое настоящее физическое страдание оказывается и последим. Умершего от апоплексического удара Рагина провожают на кладбище только прислуга и приятель-предатель, фактически – убийца.
«В „Палате № 6“ в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – палата № 6. Это Россия… Чехов сам не думал того, что написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата – это его Русь»[8], – обобщал в свое время Лесков. Через несколько лет словно запертым в палате № 6 почувствовал себя после прочтения повести Ленин.
Но, взяв за основу другую сюжетную линию, социально-психологическую повесть о происходящем в российской провинциальной глухомани, в двухстах верстах от железной дороги, можно прочесть и как философскую экзистенциальную притчу, почти в духе нелюбимого Чеховым Достоевского или будущего Камю: об уловках разума, пытающегося бежать из железной клетки сущего; об ответственности за мысль и ответственности за жизнь; о человеческой воле, сосредоточенном усилии, которая, вопреки законам природы и знании о неизбежном конце, медленно изменяет неподатливую социальную реальность.
Даже если реальность – тюрьма, сумасшедший дом, палата № 6, это не избавляет человека от ситуации выбора: агента или пациента, мучителя или жертвы, совестливого лежебоки или бессовестного насильника.
Сходная структура реализуется и в «Доме с мезонином». «Рассказ художника», печальная история любви («Мисюсь, где ты?» – очень часто рассказ читается только на этом уровне), оборачивается очередной идеологической дуэлью между безответственным и бездеятельным рассказчиком и строгой, организованной, деловитой старшей сестрой.
Конфликт между героями намечен уже в начале второй главы. Здесь в косвенной речи рассказчика дается описательная «немая» сцена, которая затем «озвучивается», переводится в диалог: «Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила… Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин» (9, 178).
Идеологическая линия сюжета занимает всю третью главу повести, становясь ее кульминацией. Позиции сторон обозначены очень четко. Героиня истово и упорно защищает больницы, аптечки, библиотечки – то, что она делает ежедневно. «В споре с художником, – пишет Э. А. Полоцкая, комментируя текст в академическом собрании сочинений, – Лида Волчанинова выдвигает аргументы, к которым обращался любой земский врач или учитель, нашедший свое призвание в помощи деревенской бедноте» (9, 493). Эта двадцатитрехлетняя девушка – истовый идеолог «малых дел», так необходимый русской жизни прагматик. Лида настаивает: надо же что-то делать сейчас.
Художник предлагает другую картину «общего дела», он откровенно философствует и мечтает. Он отрицает не столько реальные медицинские пункты и школы, сколько надежду на них как на способ решения всех проблем. Он выступает с позиций утопии, сам отлично это понимая. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, – сказал я. – Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки».
Если рассматривать спор героев в третьей главе «Дома с мезонином» изолированно, художник, кажется, очевидно проигрывает в нем. Его истерическое: «И я не хочу работать и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!» – выглядит более уязвимым, чем уверенное суждение героини: «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить».
Однако и здесь философия героев проверяется на уровне бытового сюжета. Степень верности героини высказанным идеям, соответствия слова и дела видна уже в сцене идеологического спора. Ответственное суждение Лиды: «Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы – правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь», – сопровождается внешне нейтральным, но, по сути, разрушительным наблюдением: «„Правда, Лида, правда“, – сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное, и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда».
Человек, произносящий слова о служении ближним, рассматривает этих ближних как шахматные фигурки, которые можно передвигать в нужном направлении. Финальный эпизод, в котором она решает судьбу сестры, даже не появляясь, чтобы объясниться с художником лицом к лицу, становится решающей разоблачительной деталью.
Точно так же, как к ускользающему, невнимательному взгляду, а в финале – к значимому отсутствию во многом сводится характер Лиды, в характеристике художника есть деталь, наиболее четко передающая его мировосприятие. В сцене спора герои конфликтно соотнесены буквально в одной фразе: «Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль… (курсив мой. – И. С.)».
Главная мысль не дана как не требующая доказательств аксиома, до нее нужно доработаться, дойти. Позиция художника – это позиция человека, напряженно вглядывающегося в жизнь, ищущего, способного понять чужую точку зрения и подвергнуть сомнению свою. Она подлинно диалогична. Его отношения с Лидой (в авторском кругозоре) объясняются не разными взглядами на обучение крестьянских детей или искусство, а куда более общими причинами.
«Дом с мезонином» написан вовсе не для дискредитации «малых дел» (Чехов и сам немало занимался ими), рассказ не сводится и к лирической любовной истории. Внутренняя тема рассказа – в противопоставлении двух типов отношения к жизни, которые существуют за пределами идеологического спора: интеллектуального деспотизма, переходящего в деспотизм бытовой, и подлинного понимания, проникновения в сознание другого человека. «Дар проникновения» – это и есть то главное, что разводит чеховских героев или объединяет их.
Дело не в деле, а в его личностном обосновании. Деловитость Лиды оказывается столь же антипатичной, бессовестной, разрушительной для окружающих, как и бездеятельность Рагина.
Чехов не решает вопроса об абстрактной ценности, значительности той или иной идеологической или философской системы как таковой. Для него важно только то, что она не может служить конкретным жизненным ориентиром, абсолютной «нормой», на которую может без раздумий опереться каждый человек в своем духовном поиске. Жизнь оказывается мудрее и сложнее любой из таких объясняющих систем.
Поэтому в большинстве идеологических сюжетов персонажи не только оппонируют друг другу. Их споры обтекает живая жизнь, у которой есть свой голос и смысл.
Наряду с философствующими персонажами «Дуэли», столкновение которых едва не завершается «смертоубийством по правилам», в той же повести существуют доктор Самойленко и смешливый дьякон. В отличие от «теоретиков-идеологов», которые ищут, эти просто живут, но другим от них становится легче и теплее. Именно они видят главное и лучшее в непримиримых до поры до времени антагонистах. «За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! ‹…› Вместо того чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга».



