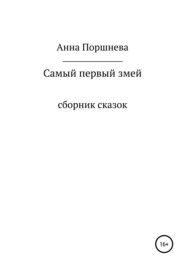 Полная версия
Полная версияСамый первый Змей
Первый, старшенький, всё больше съестным интересуется. Где что растёт, когда что вызревает, откуда что берётся. Всё норовит какой новый корешок выкопать или дудку болотную обглодать, и уж рвётся в огороды и поля наведаться. Младший в небо глазеет и мечтает. И тоже вопросы задаёт. Вот целый день и звенит в ушах на два голоса :
– Зачем у жука шесть лапок, а крыльев – четыре?
– Почему червяк со всех сторон одинаковый, а гусеница – нет?
– Крапива злая да, раз она жжётся? А почему тогда молодая не жжётся?
– Почему одуванчики горькие? Почему клевер сладкий?
– А почему огонь лапу обжигает, а пасть –нет?
– Шишки только с одной стороны открываются, да, папа?
– Зачем на лапах столько когтей, они ж не удобные и ходить мешают? Зато они цеплючие и
можно на самое высокое дерево забраться!
– А почему, когда летишь, чтобы повернуть, надо набок наклоняться?
– А если в воздухе перестать крыльями махать, что, так на землю и шлёпнешься? А я пробовал, только они не перестаются, всё равно хлопают…
– А зачем ? А почему? А откуда? А как?
Вот и назвал их Змей Обжоркой и Мыслителем. А до тех пор всё старшим и младшим называл, как-то несерьёзно выходило, не по-драконьему.
Как думать удобней
Задумался как-то Мыслитель, как ему думать удобней. Лёг на пузико, лапками передними голову подпёр – не думается. Сел, хвостом обвился – не думается. На бок привалился, к склону холма прислонился – не думается. Лёг на спину, крылья растопорщив – и вовсе не хочется думать, а хочется дрыгоножствовать и губошлёпствовать. Поднялся под облака, в небо взгляд мечтательный устремил, "ну, – думает, – сейчас начну мыслить. Отчего, – думает, – драконы не летают так, как птицы?" А тут мимо как раз галка какая-то пролетала. "Странно, – продолжает думать Мыслитель, – а вроде и как я летает. Лапки поджала, шею вытянула и крыльями машет-старается". В общем, не выходят умные мысли. Опустился он, грустный, на землю и пошёл к малиннику.
А там Обжорка сидит, обеими лапами кусты к себе наклонил и длинным языком ягоду ловко оббирает. И что-то себе думает интересное.
Медведь страшной
Анютка да Машутка Пряслины по малину в лес пошли. Дело нехитрое, округа тихая, так их родители и не вдвоём отпускали – вместе с другими девчонками деревенскими, – оно и не страшно. Только девки-то – непоседы, за разговором, да за смешком, да за шалостью они вместе с Ольгой Егорьевой в лесу в сторону и ушли. А от Ольги какой прок? Малой ещё и семи годов не стукнуло, сама дитё неразумное. Известное дело, заблудились. Идут по лесу, корзинки волокут, хнычут. Анютка, что по-старше аукать принялась, и вроде как отвечает её кто-то из кустов-то; только странно как-то отвечает: то ли хрюканьем, то ли ворчаньем.
Ну, думают, может какая корова от стада отбилась, так тогда она нас по запаху к пастуху выведет, и идут за хрюканьем. Глаза высохли, споро ножками перебирают, так и вышли на полянку. Да и полянка вроде как знакомая. Вроде как совсем близко уж деревня быть должна. Только тут этот, который хрюкал, что-то в чаще заворотился неловко да и высунулся. Как девчонки заорут, как рванут в какую незнамо сторону! Корзинки, однако, не побросали – волокут на себе дале. Добежали до дому, очухались, сидят, бабке Александре рассказывают:
– Там в кустах медведь страшной. А когти-то! А пасть-то! А хвостище!
– Эт вас, девки, лешой водил, – рассудила бабка Александра.– Потому никак не мог это медведь быть: у медведей хвосты куцые.
А в это время на дальнем пригорке Обжорка отцу рассказывал:
– И вовсе эти люди нестрашные и незлые. Они маленькие и глупые.
Вспомнил тут Змей все ямы с дрекольем, куда он падал и чуть не падал, все сетки, из которых он выпутывался, все доски шипастые, которые на него с сосен валились и ответил:
– Конечно, сынок, люди незлые. Но они – люди.
Змей и чудища человеческие
Стали люди Змея теснить. Уже и на полянке ему в летний полдень не поваляться вволю, и леса его заповедные, древние редеть стали и сжиматься, и шуму-гомону от людей стало больше, а серьёзной напевной речи меньше. Раньше-то Змей частенько вечером к деревне подбирался поближе, ушами своими правыми, острыми да верными, к земле прижимался и слушал, о чём старики на завалинках речь ведут, о чем девки в горницах судачат да о чём парни частушки с перебором и словом лихим припевают. Теперь же опоясались сёла да деревни широкими дорогами, по рекам стали плавать лодки невиданные, агромадные – трудно стало Змею прятаться. Да и то сказать – вырос он за те осемьсот с лишним лет, что на свете прожил, заматерел, правда, от времени будто мхом порос, и не блестит его чешуя больше зелёным перламутром, не отливает красным золотом, а словно серенькое сукно мягкое стала, и даже будто мягче – но только на ощупь, а на деле плотная и крепкая, крепче стали.
Но тут такое случилось, что Змей всю осторожность свою вековую потерял. Люди завели чудищ. Чудища длинные, быстрые – летят над землёй вдали и тысячью глаз горящих на мир смотрят. Чудища поют: когда весёлые – нагло присвистывают, будто дразнятся, когда печальные – стонут жалобно, когда сердитые – ревут на сотню голосов, инда земля дрожит. Поначалу от блеска глаз да пуще от крика Змей побаивался чудищ. А потом приметил: ходят чудища всегда одними и теми же дорогами, видно люди их так приучили, и бояться перестал. А потом разлюбопытствовался и решил на них поближе посмотреть. Раз решил, значит сделал: разведал, где у чудищ логово и когда там люди бывают, подождал, пока июньский туман плотный поднимется, и подкрался к одному из этих, желтоглазых, который почему-то в стороне от других ночевал.
Подкрался и спрашивает:
– Ты кто будешь, чудище незнаемо?
А то молчит, хотя видно, что не спит – глаза все открытые, только и не светятся больше.
– Из каких земель явилось? Навсегда жить иль так погостить малость?
Молчит.
– Да что ж ты за невежа такой! – осерчал Змей и пнул чудище. Пнул легонько, да в нём что-то хрустнуло, шваркнуло, и чудище назад подалось. Странно как-то подалось, слишком ровно, будто ползком. Только ползком никто так ровно назад не ползает. Пригнул Змей головы к земле, взглянул чудищу под ноги – а там колёса железные. Да и само чудище – дерево крашеное да стёкла.
– Ах, так ты неживое! – огорчился Змей, зачем сразу не догадался, что люди снова себе игрушек понаделали, вместо чтоб живое разглядеть – приручить. Очень разочаровался Змей в людях, так и побрёл, разочарованный, домой.
Что на свете всего милее
Как детушки выросли да Змея покинули, затосковал он. Годов двести тосковал. Сядет, бывало, на пригорок,свесив головы ниже плеч, жуёт ягоду какую-нибудь, а горючие слёзы так и катятся на сыру землю. Или летит в поднебесье, вроде и славно, легко летит, да тоска-печаль гнетёт его к земле. Особенно тошно Змею в заморских странах приходилось. Как зачнётся там сезон дождей, повиснет Змей на лапах высоко в старом заброшенном городе на башне, закутается в крылья, качается и присвистывает жалостно да изредко струйку дыма в виде печального знака вопроса ноздрями выпускает.
Но потом обвык. А потом и взвеселился. Забаву себе новую придумал. Люди-то за недолгое время от змеев совсем отвыкли, стали на них как на чудища невиданные смотреть. Вот Змей и приноровился: поймает какого одинокого прохожего и давай с ним в загадки играть. А последнюю обязательно загадает: "Что на свете всего милее?" Тот, конечно, "Жизнь, жизнь!" шепчет, бледнея. Змей посмеётся над ним да и отпустит.
И вот, недавно совсем, да прошлым летом, если правду сказать, на опушке леса повстречал Змей диковинного человека. Тот треногу в кустах у полянки развернул, да на неё пищаль какую-то с толстенным коротким дулом приноравливать стал. "На медведя, что ли, собрался?" – подумал Змей, – "Да где ж ему тут взяться, медведю-то. Уж лет сто как ни единого не было."
А человек, как Змей ему лапой дорогу перегородил и ногтём легонько за плечо потрогал, не испугался. И не упал в обморок. И кричать-креститься тоже не зачал. А стал он по карманам хлопать и приговаривать "Где ж она? Да куда же я? Дома что ль забыл? Эх!". Потом уставился на Змея и справшивает:
-Что ж ты за животина? Дракон, что ли?
– Змей я, – отвечает Змей, а сам, восхищения ради, крылья развернул, алой грудью выкатился, изумрудным хвостом бьёт, всю свою красоту на показ выставил.
– А откуда ты взялся? Вроде я вчера и выпил немного…
– Я тут всегда был. Это вы, люди, тут наездами бываете. А мы, змеи, от людей прячемся. Тайные мы животные. Вот ты мне лучше ответь, что это за штуковина.
– Это брат камера, Никон – а дальше залапотал что-то не по-нашему, – штатив к ней, вон сумка моя со всякой всячиной, а маленькую свою я в сумке,в идать оставил.
– Зверьё, что ль, стрелять надумал?
– Нет, это, брат, оборудование, чтобы фото делать. Ну типа картинок, только лучше, жизненнее.
– Понятно, – говорит Змей, а сам ничего не понимает. – Я тут, понимаешь, всем один и тот же вопрос задаю. Очень меня, понимаешь, интересует, что на свете всего милее. Ты как думаешь?
– А чёрт его знает. Я бы сейчас, кажется, полжизни за мыльницу отдал, чтоб твой снимок сделать. Может, отойдёшь, попозируешь?
– Это как?
– Ну встань неподвижно там где-нибудь, у того дерева.
Змей, куда указано было, отошёл, приосанился, головы приподнял и с полчаса позы разные принимал, уж больно человек вежливый попался да уважительный. Только потом на съёмках одни какие-то разводы оказались. Земляничного цвета.
Как Змей помирал
Как-то раз Змей надумал помирать. Взбрело ему в головы, что стар он стал, и что земля русская отказывается его носить. Решил в последний раз на ясный день посмотреть, втащился кое-как на пригорок и озирается с осторожностью. А вокруг раннее лето. Птицы щебечут, над гнёздами хлопочут, черёмуха доцветает, слива и яблони в цвет пустились, в траве куропатки и мыши-полёвки шмыгают, шмели жужжат, на солнечных местах белые многообещающие цветы земляничные из-под кудрявых листьев выглядывают, солнышко припекает… Зажмурил было Змей глаза от удовольствия, хотел было повалиться на бок и хвостом в воздухе бить, а нельзя – помирать надо. Закручинился снова, понурил головы и зачал жалостным голосом:
– Ты прости-прощай, русская земля! Прощайте, ромашки – колокольчики! Прощай, клевер луговой! Прощайте, солнышко золотое да небушко голубое! Прощай, воробушек, и крот, прощай! Прощай, земляника-ягода. Не едать мне больше тебя, сладкую. Пропадёшь ты в этой глухомани одна-одинёшенька, разве что какой заезжий богатырь пару горстей в рот мимоходом отправит и скажет: "Крупна в этих местах ягода". Прощай, речка быстрая. Не мочить мне больше в тебе лап, не гулять по твоим прохладным берегам. Прощай, лес густой. Прощай, луг широкий. Прощайте поляны солнечные и буреломы тенистые. Не летать мне больше над вами, горемычному.
А под носом у него белая бабочка вертится, дуновением лёгким ноздри щекотит.
– Отстань!, – говорит Змей, – не видишь: помираю.
А та не отстаёт, в глазах мелькает, инда двоиться всё стало в головах у Змея. Махнул лапой – не отстаёт. Хвостом по земле ударил – вьётся вокруг, как ни в чём не бывало. Дыму из ноздрей пустил – не улетает. Ладно, думает, сам улечу. Поднялся, лапами запотаптывал, крылья расправил, летит. Только краем глаза видит – бабочка уселась на носу, крылышки сложила и словно заснула. Он головой помотал -сидит. Кувырок в воздухе сделал – не шелохнется. Уж он и петлями ходил, и в штопор свивался, и поднимался под облаки, и падал стрелой на землю, а она всё там. Притомился, опустился на землю, хвостом обвился и задремал. И чудится ему, будто он сам не змей могутный, а маленькая лёгкокрылая бабочка, которую вроде бы и ветром носит, и любой прихлопнуть может, а вот приведись ей заупрямиться – и ничего с ней не поделаешь. И чудится ему, будто он огромный-огромный, будто тело его – сизое облако, головы – цветущие радуги, лапы -потоки речные, а крылья – кроны деревьев, и всё это поёт, движется, радуется.
Проснулся Змей, встряхнулся и пошёл козлёнком по лугу скакать, представлять себя кузнечиком. Шуму, конечно, поднял! Так в тот раз и не помер. Да и вообще не помер.
Как Змей зелёным оболоком летал
Как-то Змей залез по осени на крестьянские огороды и объелся капусты. Раздуло его горой, подняло над землёй и поволокло северным ветром в сторону южную – лапки по бокам болтаются, спереди головы, точно пупырышки торчат, сзади хвост кой-как рулит, крылья сверху ненужные распластались по надутой барабаном шкуре. Летит Змей, погромыхивает время от времени, аки туча грозовая. Люди внизу прислушиваются, принюхивается, пальцем тыкать начинают и кричат: "Глядика-сь, какой оболок зелёный по небу катится".
Вот он над Орлом пролетал. Пока летел, ещё яблочков прихватил с огородов. Крестьяне вилы похватали, заборы на дреколье разобрали, бросились за Змеем с криками "Лови чуду-юду!", да куда им, он уж к Украине подлетает. Над Украиной ночь стоит тёмно-синяя, бархатная, степные травы сладко пахнут, пролётные журавли призывно курлыкают, тихая печаль объемлет сердце и ещё легче делается Змей от той печали, ещё быстрее мчится к югу.
Вот уже и море под ним – Чёрное, бурное, неласковое. Помотало его над волнами, помочило лапы водой солёной, горькой, пару раз молоньей шибануло с неба. Сдулся малость Змей, встряхнулся, крылья расправил – и в Африку, зимовать.
Капусту, однако, после того случая есть вволю опасался.
Снежный змей
Второй-то раз Змей зимовать остался не по своей воле. Детки его – Обжорка и Мыслитель – ещё малы были, не могли на крыло встать да в щедрые южные земли лететь.
С осени стал Змей готовиться. Пещеру нашёл подходящую, в болотах мест напримечал, где подснежная клюква с брусникой расти будут, а пуще всего – сам наелся и детей от пуза наесться научил. Надо вам сказать, что при случае змеи могут и полгода ничего не есть, да ещё при этом довольно хорошо себя ощущать. А кроме того, могут они и в спячку впадать, правда, не надолго – недели на три всего, уж больно любопытны.
Обжорка, конечно, не очень обрадовался, что поститься придётся, и потому всю осень старательно грёб во все свои три пасти грибы, орехи, корешки разные, яблоки дикие и прочее, что попадалось. Мыслитель отнёсся к делу философски и просто решил поменьше двигаться. Да и вообще в конце ноября завалились они все втроём спать. Проснулся первым Обжорка и увидел, что вход в пещеру весь прикрыт каким-то мерцающим молочным занавесом. Потрогаешь – хрупко и колко, под рукой холодит, а на языке пресно. Продышал себе Обжорка дырку, смотрит – а вся земля, и все деревья покрыты белым искристым пухом. Не выдержал он восхищения, пошёл и Мыслителя растолкал.
– Если серьёзно подумать, – говорит Мыслитель, – то это есть снег, диковинная субстанция, из воды зимой получающаяся. Люди по ней на санках катаются и снежных баб из неё лепят.
Обжорка взял в лапки снега, сколько загреблось и сжал. Получился комок. Обжорка комок наземь кинул и покатил. Комок расти начал. Обжорка пыхтел, обливался потом и старался и скатал ком рамером чуть не с себя. Мыслитель три комка поменьше сверху приладил. Шишки вместо глаз и носов, длинная еловая ветка на хвост пошла… Вот и готов снежный змей! Потом, в январе уже, они со скуки такого огромадного слепили, что он только в июне и потаял.
Кстати, ещё Мыслитель выяснил, что хвою тоже есть можно. Что она, хоть и смолистая, да очень питательная. А Обжорка опытным путём понял, что снег есть не надо – невкусный он, и горло потом болит.
Удачный день
В этот день Змею везло. Сперва он нашёл малинник, деревенскими бабами не топтанный, медведями не ломанный, и с удовольствием объел его. Потом с сытости и довольства утратив бдительность, залёг на поляне под августовским солнышком пузо греть. А тут через всё небо чёрный сполох чиркнул – баба-Яга. Мало их, баб-Ёг-то, осталось. Хоть и лень было Змею, а поднялся, встряхнулся и побежал туда, где карга старая приземлилась.
И Яга оказалась не злая. Вполне себе дружелюбная Яга оказалась. Крыло, по весне бродячим охотником подстреленное, осмотрела, мазь какую-то болотную, остро пахнущую, намазала, да корешков жевать дала. А потом пригласила к себе – у избушки посидеть, ромашкового чаю выпить с мёдом да разговорами душевными.
Вспомнили старину. Вспомнили времена, когда змеев было пруд пруди и на каждой опушке курьи ножки топтались. Вспомнили царские облавы, когда немало ихнего брата полегло. Змей тогда от греха в далёкую страну перебрался, в диких горах посреди персиков и хурмы отлёживался. Недобрым словом помянули времена новые. Особенно бабе-Яге железная дорога почему-то не приглянулась. "Ишь ты, – говорила она, цыкая единственным зубом на блюдечко с горячим чаем, – фукзалы завели какие-то". И недобро взглядывала в сторону ближайшего города.
Распрощался Змей с бабкой уж затемно. Поднялся на крыло, полетел к реке. А вода в ней – даром, что август – ещё тёплая, нежная, мягкая. Сунулся было Змей искупаться, а там люди. Эх! Запрятался в кусты, слушает. А они всё о природе говорят и – Ах! Марья Гавриловна, Вы посмотрите, какая луна! Ведь точно золотой щит на бархатном небе сияет. Разве можно в такой чудный вечер сдержать порывы души, которые точно неминуемая буря настигают… И всё в таком роде. Плюнул Змей со всех трёх голов и подался в сторону, нарочно громко кусты ломая.
Оглянулся только раз – смотрит, а барынька уж в обмороке на руках у кавалера висит и томно вздыхает. Ну ещё с полчаса на юг вдоль реки пролетел, нашёл место чистое, спокойное, тихое, и с разлёту в воду бултых! Хорошо…
И всю ночь потом летал лёгкий, довольный. А под утро укрылся в пещере и спал вдосталь. Тяжёлые настали для змеев времена в мире. Каждый спокойный день надо за удачу почитать.
Змей и война
Лежал как-то ранним утром Змей на пригорке и на зреющую землянику любовался. Лёгкий туман наплывал от речки, слабо шелестела наливающаяся пшеница, ветер играл в камышах, птицы все спали и только какой-то припозднившийся соловей заливался в малиннике.
Хорошо было Змею, радостно, лёг он на спину, воззрился всеми тремя головами в небо и стал на облака любоваться. И вдруг в небе над ним появились заморские драконы. Были они длинные, злобные, быстрые и летели прямо, не сворачивали. Летели прямо к прекрасным городам, где жили добрые люди, и несли с собой смерть. Понял это Змей, поднялся в воздух и хотел драконам бой дать.
А драконы-то неживые – железные, плюются огненными плевками, больно царапают его крепкую шкуру. Но Змей не отстаёт, кружит вокруг, смотрит вдаль взглядом своим особенным, змеиным и видит – рвутся бомбы, рушатся дома, гибнут люди. Много людей гибнет, долго идёт война, никогда такого горя не видел Змей прежде.
Сокрушилось сердце Змеево от печали великой, пал он на землю и расплакался. А где слёзы его упали на землю, там выросли цветы незабудки. Только недолго они росли – затоптали их сапогами там, где прежде только босыми ногами и хаживали.
В этот год третий раз остался Змей зимовать на родной стороне, не хотел бросать землю-матушку в беде. Зима выдалась лютая, снежная да безнадежная. А впереди было ещё столько дней войны…
Змей и поэзия
Змей, когда влюблён был, поэзией увлёкся. Баллады разные старинные под нос бурчал, оды сочинял и серенады пел. Потом разлюбил, но стихов не бросил. Придумал себе в рифмы играть, когда делать нечего. И так заиграется, бывало, что ничего перед собой не видит всё забывает. Вот разгонится к нему богатырь какой-нибудь верхом на резвом коне, криком кричит:
– Эге-ге-гей, выходи, змей поганый!
– Пусть поганый, да не пьяный, – бойко отвечает Змей.
– Да ты что, дразниться?
– Остынь, попей водицы.
– Ах ты, немытая рожа!
– Твоя-то на что похожа?
– Счас мечом перепашу!
– А я сплюну да спляшу.
– Да я ж тебя, вражина!
– А в тебе росту два аршина.
А богатырь и точно невелик попался. Оскорбился, копьё навострил да и помчался. Прямо в грудь, супостат, целит! А Змей-то мой замечтался, головушку лапой подпёр и сочиняет слово похвальное землянике.
Но не бойтесь, всё хорошо кончилось. Разлетелось копьё вдребезги, наткнувшись на грудную кость, конь же в сшибке опрокинулся, богатыря сбросил и заржал обиженно. Змей встряхнулся, почесался, глаза скосил и молвил ласково:
– А не будешь поганым обзываться,
Да обидными словами ругаться,
Да без повода-причины драться.
Богатырю стыдно стало, повесил он голову ниже плеч и поехал куда глаза глядят. Но поэзию с тех пор возненавидел.
Змей и головная боль
Однажды Змей объелся голубики – она ещё в народе гоноболью зовётся – и заболели у него головы. Сначала (минут пять) он стоически терпел боль. Потом (с полчаса) он уговаривал себя, что само пройдёт. Но видит, что не проходит, наоборот, в средней голове как будто сверлом сверлит, левая кружится непрестанно, а правая гудит. И во всех головах равномерно виски пульсируют. Летать совсем никакой возможности нет – навигация сбивается.
Поковылял Змей к озерцу и сунул в него лапы и хвост. Сомы налетели, губами его щекочут, вода из ключей приятно холодит, но боль не утихает. Сунул в озеро головы по очереди, одну оставлял для дыхания. Под водой красиво камешки на солнце поблёскивают, мальки стайками мелькают, лягушки плавают, интересно под водой, но облегчения нет.
Залез Змей в дремучий ельник. Корявые ветки его по бокам шкрябают, иголки в шкуру впиваются. Колко, неуютно, а головы, знай себе, болят.
Решил Змей бабу-ягу найти какую-нибудь, авось поможет. Не нашёл. Попробовал сам мухоморов поесть на всякий случай. Небо стало лиловым, а лес – малиновым. И из-под кустов рожи странные высовываться начали. Рогатые зайцы опять же пронеслись мимо. А головы не проходят.
Делать нечего. Пошёл Змей к железной дороге – жизнь кончать. А там рельсы раскурочены и стайка рабочих на припёке вперемешку с ломами и лопатами спит. Рядом четверть тёплого самогону, наполовину опорожненная. Змей учёный был, знал, что самогон – яд, вылакал четверть до дна и улёгся рядом, смерти-избавительницы дожидаться. Не заметил, как задремал. А рабочие проснулись, ужаснулись и разбежались.
С тех пор выражение "Зелёный змий" и пошло в народе. А головы болеть перестали. Видать, с похмелья.
Змей и Китай
Был у Змея в жизни случай, когда его чуть не съели. Он про этот случай – тьфу огнём три раза! – и вспоминать не хочет. Ну да я вам расскажу. Был тогда Змей молодой, шумный и гулливый. Решил в Китай слетать заморских фруктов – персиков да апельсинов – испробовать. Прилетел, расположился вольготно на рисовом поле, пузо мочит, молодые побеги пожёвывает. Вокруг копошатся маленькие человечки, но вроде его не замечают. И он их вроде не замечает.
А рядом сады цветут-благоухают, наводят на Змея мысли томные, сладкие. Хорошо в Китае! И эти маленькие что-то лопочут вокруг. И тут вдруг стал Змей знакомые слова угадывать. "Гигантская лягушка", "Накрыть сетью", "Большой огонь", "Подать императору на праздник любования сливовым цветом" и другие такие же неприятные.
Порасспросил Змей птичек и бабочек и понял: дело плохо. Пришлось спешно с места сниматься. Очень большую в тот раз Змей обиду на людей затаил. Дней десять губы дул. На одиннадцатый простил. "Знамо дело, – подумал, – Я чистой ягодой всю жизнь питаюсь. Тело у меня стало сочное да сладкое, каждому охота попробовать".
В Китай, правда, с тех пор не летал. А персиков наелся лет через триста, когда по Дону реке шатался.
Как Змей кашу расхлебывал
Змей был любопытный, отчего не раз попадал в истории.
Вот однажды вздумалось ему попробовать, что за кашу такую люди себе варят. То, что она из зернышек варится, это он по духу распознал, и решил, что, наверное, вкусно. И вот как-то в лес наладилась орава мужиков – деревья валить по промышленному делу Был среди них и кашевар выборной, знамо дело. И знатный, должно быть, кашевар был: как почнёт кашу варить, дух по всему лесу стелется, ажно волки в своих логовах жмурятся да облизываются. Тем более Змей.

