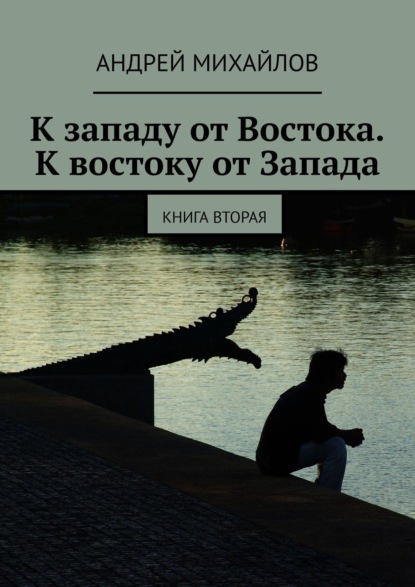
Полная версия:
К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга вторая
Между тем, как ни странно, только единицы из миллионов паломников видят Тадж-Махал во всём его заповеданном величии с его главного фасада. Дело в том, что белоснежный мавзолей Мумтаз-Махал – лишь половина незаконченного поминального комплекса. По легенде Шах-Джахан предполагал строительство второго такого же – на противоположном берегу Джамны. Такого же – но только из чёрного мрамора. Для себя. Так, чтобы оставшуюся часть Вечности оба памятника вечно смотрели друг на друга.
Вторая часть проекта так и осталась невоплощённой. Строительство началось, но было прервано известными событиями на стадии закладки фундамента. Тем не менее, чтобы понять величие замысла, на Тадж-Махал необходимо посмотреть оттуда, откуда на него должна была вечно глядеть его чёрная тень. Туристов на противоположный берег Джамны не возят, и это парадокс, хотя такое вообще-то характерно для индийского турсервиса.
Потому требуется небольшое усилие, дабы отыскать дорогу к реке и договориться за 100 рупий с паромщиком, чтобы он перевёз вас туда и вернул обратно. Если приурочить такую экскурсию к часам, когда солнце нехотя садится за вычурные крыши далёкого Агра-форта, а над розовой гладью Джамны то и дело пролетают белоснежные цапли – вы, уверяю, получите не только великолепные снимки, но и впечатление, которое останется с вами на всю оставшуюся жизнь.

Свойство белого мрамора, из которого сотворён Тадж-Махал, – менять свой цвет в зависимости от освещения, превращает предзакатное зрелище в подобие искусно сработанного светового шоу. Причём стоящий на высокой платформе мавзолей, если смотреть на него с другого берега реки, обретает свой перевёрнутый антипод, трепетно подрагивающий в мутноватом зеркале тихоструйной реки. Оттого создаётся полнейшая иллюзия, что он не стоит, а свободно парит в промежутке меж земной и небесной твердью опираясь на своё отражение.
Кстати, именно отсюда писал свою картину Василий Верещагин, который был не только знаменитым и беспощадным баталистом, но ещё и тонким ценителем прекрасного, знатоком Востока.

…Наверное, это небольшое эссе очень смахивает на объяснение в любви. Развёрнутое и сумбурное. Пусть будет так. «Лучшее в стране – столица, в столице – дворец, а во дворце – молодая царица». Я люблю Индию. А Тадж-Махал – душа Индии. Потому-то так тянет побывать здесь вновь и вновь.
Две столицы Великих Моголов: живая и мёртвая
Вообще говоря, Моголы весьма своеобразно относились к столице своей империи. Постоянной и долговременной у них не было вообще. Стольный город переносили всякий раз, как только возникала потребность разрядить ситуацию в какой-то части государства. Или просто появлялась на то чья-то царственная прихоть. Кочевые гены создали оригинальную кочующую династию. По количеству переносов столицы с государством Моголов может сравниться разве что Казахстан XX века.
Меж двух могил
Красноречивее всего о неусидчивом характере Великих Моголов говорят их могилы. Сосредоточенные вовсе не в одном каком-то фамильном некрополе, а разбросанные на тысячи километров одна от другой. Бабур покоится в Кабуле, Хумаюн – в Дели, Джахангир – в Лахоре, Аурангзеб – в Аурангабаде. Но самые оригинальные представители Великих, Акбар и Шах-Джахан – всё же обрели вечное пристанище в одном месте. В Агре. Здесь же, кстати, изначально находилась и могила Бабура. Потому, наверное, этот город может с наиболее полным основанием претендовать на звание столицы Великих Моголов.
Можно сказать, что вся Агра лежит меж двух царственных могил. На западе, в районе Сикандара, в огромном, хотя и несколько эклектичном мавзолее, под стражей четырёх белокаменных минаретов – последний престол неуёмного Акбара. На востоке – Тадж-Махал, где рядом со своей обожаемой Мумтаз-Махал нашёл в конце концов долгожданный мир внук Акбара – Шах-Джахан.

Современная Агра… Нет ничего нелепее такого словосочетания! «Современная Агра» – все равно, что «античный Лос-Анджелес». Потому что нет никакой современной Агры! Очистить улицы от электрических проводов, убрать рычащие тук-туки, снять со стен навязчивую рекламу, и уже сложно будет понять, в какое время и какое царствование угодил. Впрочем, истины ради замечу, что это не особая агринская реальность – вся Индия такова. За небольшим исключением. Здесь не гонятся за Временем. Здесь Время само подстраивается под местный ритм.
Красный форт №1
Все знают Красный форт в Дели. Он – символ новой индийской независимости. Но делийский Красный форт – во многом лишь авторское повторение Джахангиром Красного форта в Агре. Или – «Агра-форта». Спросите, при чём тут вообще-то «форты»? Не при чём. В прилипшем «окончании» обоих сооружений, нет ничего ни индийского, ни могольского, – это уже британский вклад.
Акбар стал императором в 1556 году, будучи тринадцатилетним юношей. Если принять во внимание то, что весть о смерти отца, злополучного Хумаюна, застала царевича вовсе не на женской половине дворца, а в военном походе, в извечно непокорном Пенджабе, то на молодость скидку можно не делать. К тому времени Акбар уже зарекомендовал себя не только храбрым воином, но и изощрённым военачальником. О многом говорит хотя бы то, что, заполучив трон, юный Великий Могол вовсе не кинулся проматывать невеликую ещё госказну на чувственные радости. Он употребил все свои силы на войну с самыми заклятыми врагами династии. И успокоился лишь спустя восемнадцать месяцев, когда голова главного недруга – Хему была покрыта известью и вмурована в башню в Кабуле, а тело супостата вывешено в Дели.

Успокоившись, молодой император принялся за масштабные строительные проекты, первым из которых было сооружение дворца-крепости в новой столице – Агре. Хотя большую лепту в его облик внесли Джахангир и Шах-Джахан, заложил его Акбар. «Красным» это сооружение стало благодаря использованию традиционного в этой части Индии красноцветного песчаника, из которого здесь строили и до и после Моголов. Но именно в могольский период использование красного камня, зачастую в удивительном сочетании с белым мрамором, достигло высшего расцвета.
По сути своей «Агра-форт» это Кремль, Вышгород, Акрополь – укреплённый дворцовый комплекс. Но, возведённый не «за стенами», а «на стенах», на высоте 25 метров над окружающей равниной. Самые эффектные постройки дворца возвышаются, часто буквально нависая, над просторной поймой Ямуны-Джамны. Отсюда, с высоты, с азартом наблюдал за своим любимым зрелищем, слоновьими боями, неуёмный Акбар. Тут, на открытой площадке, на знаменитом троне, восседал расслабленный гашишем утончённый эстет Джахангир.
Здесь же, в ажурной каменной беседке на башне – Мутхамман Бурдж, провёл последние годы своего пожизненного заточения страдающий Шах-Джахан. Именно в этой беседке монарх-романтик ощущал себя когда-то таким счастливым и безмятежным, любуясь пролетающими птицами вместе со своей незабвенной Мумтаз-Махал. И вот, на закате жизни, отстранённый от царствования и заключённый сыном во дворце, именно здесь Шах-Джахан смиренно ждал в одиночестве своего конца. Прикованный взглядом к одному месту, где над скучной и пыльной равниной, над равнодушно текущей Джамной трепетал в лучах солнца волшебный цветок мраморного лотоса, взращённый им над могилой любимой.

…Со стен Красного форта и сегодня открывается одна из самых чарующих и волнительных картин. Далёкий Тадж-Махал, всюду обрамлённый ажурными каменными рамками дворцовых окон, – мелькает то там, то здесь, перед глазами гуляющего гостя. И не поймёшь сразу, варваром или благодетелем был Аурангзеб, заточивший отца наедине с этим зрелищем…
Апофеоз Акбара
Но вернёмся к Акбару. Потому что именно с ним связана одна из самых ярких страниц в толстенной книге индийской истории. Завоеватель, строитель, реформатор, мыслитель – Акбар вовсе недаром получил в истории эпитет Великого (так выделялись самые мощные правители человечества – Рамсес II, Александр Македонский, Юстиниан, Карл, Фридрих II, Пётр I, Екатерина II и немногие другие). Такие личности – словно триумфальные столпы на пути человечества, возвышающиеся над рамками, границами и временными отрезками.
Акбар Великий правил империей полвека – с 1556-го по 1605 год. И всё время основной занозой для него была та же проблема, что мучает и сегодняшнюю Индию. Религиозная рознь между главными конфессиями – индуистами и исламистами. Сам шах изначально был последователем ислама. Так что прекрасно понимал: установить мир на своей земле он сможет, только свернув шею своим же единоверцам – фундаменталистам. Но ни в коем случае не в пользу брахманов – что привело бы лишь к усилению ненависти, – а только в пользу некоей «третьей силы».

Так в могольской Индии возник совершенно новый религиозный культ, искусственно созданный Акбаром для умиротворения населения, а заодно обожествления собственной персоны. Дин-и-илахи – «божественная вера», которая вобрала в себя всё лучшее (по мысли создателя) и из ислама, и из индуизма, не позабыв при этом и об учениях Христа, Махавиры Джины и даже Заратуштры. В качестве объектов поклонения были выбраны самые логичные и естественные – Огонь и Солнце. Сам же Акбар стал первым (впрочем, и последним) апостолом и пророком своей «божественной веры».
Кстати, интересны практические аспекты этой искусственной религии, насаждённой волевым решением. Вот лишь некоторые из них. Нельзя: брить бороды, есть говядину, соблюдать пост, совершать хадж, строить новые мечети, называть сыновей Мухаммедами, хоронить мёртвых головой на Мекку и т. д. Можно: хоронить головой на восток, молиться в храмах, построенных самим Акбаром. Ну как тут опять же не вспомнить Петра Алексеича с его брадофобией или Никиту Сергеича с его кукурузоманией?
Идеальный город Фатехпур
Главным материальным воплощением идеальной религии Акбара должен был стать идеальный город. Новая столица Фатехпур – «город Победы», начал спешно возводиться в 1571 году в 35 километрах к югу от Агры, близ Сикри. Просуществовав всего 15 лет, Фатехпур тем не менее до сих пор остался одним из самых величественных памятников эпохи Моголов.
…Перед каждой достопримечательностью в Индии происходит один и тот же навязчивый ритуал. Натиск местных гидов. Они тут у любых ворот, к которым подвозят приезжих. Словно стервятники, зорко стерегущие очередную поживу. Фатехпур не исключение. Предвратная агрессия самозваных экскурсоводов, как обычно, выбивает из колеи. Но стоит купить билет и, войдя внутрь, оказаться в одиночестве на пустынных улочках мёртвого города, про это тут же забываешь.

Как и всё, построенное Моголами, незадачливая столица Акбара возведена из знаменитого красного песчаника. Оттого кажется, что выточена из местных скал – плоть от плоти Индии. Архитектура воспринимается продолжением местной природы, а это само по себе выдаёт самое высокое искусство.
Народу немного. Во всяком случае, люди не мешают тому, чтобы отрешиться и предаться созерцанию застывшего величия Фатехпура. Город-порыв, возведённый по воле монарха трудом 20 тысяч рабов и пленников в рекордные сроки, он и смотрится вовсе не как набор домов, площадей и улиц, а как колоссальный единый ансамбль.
Тут есть всё, что только должно было присутствовать в идеальной столице идеального монарха XVI века. И тридцатиметровые триумфальные ворота – Буланд Дарваза, и площадь в виде огромной шахматной доски, где шла игра живыми костюмированными фигурами, и Слоновий двор, который служил не только манежем, но и своеобразным «лобным местом», на котором совершались приговоры (дикие слоны, к которым бросался осуждённый, были как бы судьями высшей инстанции: хотели – топтали, а хотели – миловали).
Самое необычное сооружение возвышается в дальнем конце главной площади. Здесь в изящном двухэтажном павильончике когда-то заседал верховный совет (Диван-и-кхас). Сам шах восседал в центре – на круглой площадке, расположенной поверх высокого каменного столба, а советники и эксперты располагались на галерее, опоясывающей помещение вдоль стен второго этажа. Отсюда, сверху, они выслушивали мнения и просьбы представителей народа, ходоков, которых запускали снаружи.
Заброшенная Победа
Классическое произведение, которым исчерпывается для многих всё прочитанное об Индии, – киплинговская «Книга Джунглей». Одна из самых сильных страниц этого насыщенного невероятными приключениями произведения – похождение Маугли в брошенном городе. Подобные города – это не плод авторской фантазии, а скорее вольное переложение одной из тех реальных историй, которыми сопровождалось проникновение в глубь Индийского субконтинента бравых британцев. Брошенные и проклятые города были характерной чертой этой загадочной и неожиданной страны.

Когда британцы наткнулись на Фатехпур, то их глазам предстала картина сколь впечатляющая, столь зловещая. Прекрасные дворцы, ворота, храмы, дома и стены, выстроенные из красного песчаника в едином градостроительном порыве, по одному плану, украшенные филигранной каменной резьбой и инкрустированные самоцветами, окружённые просторными площадями, иссохшимися прудами и молчаливыми фонтанами, – всё это, заросшее непроходимым кустарником, во власти лиан, чертополоха и равнодушно палящего солнца.
Блистательный Фатехпур – город Победы, превратился в сказочный город-призрак. К нему, хранимому заклятьями в течение трёх столетий, дерзал приближаться мало кто из суеверных окрестных жителей. Любимое детище Акбара Великого стало привычным обиталищем для диких пчёл, змей, коз и многочисленных хищников. Пантеры, леопарды и тигры бродили среди пустых зданий в таком количестве, что англичане, по-первости, устраивали на улицах заброшенной могольской столицы настоящие охоты. Как в джунглях.
Между тем город Победы в своём нынешнем виде вовсе не похож на те исторические руины, которые в изобилии украшают поверхность нашей не очень стабильной планеты. Нет в нём ни следов катастрофических разрушений, ни копоти пожарищ, ни свидетельств какого-то преднамеренного варварства. Когда бродишь по площадям и улицам Фатехпура, заглядываешь в многочисленные дворцы и дворы, рассматриваешь вычурную резьбу колонн и наличников в многочисленных павильончиках и беседках, то ловишь себя на том, что всё это вовсе не производит впечатления древности. Напротив, кажется, что попал на какой-то долгострой времён позднего средневековья. Вот-вот вновь откроют финансирование, на законсервированном объекте появятся строители и, весело матюгаясь, начнут облицовку помещений, установку дверей и окон, сантехнические работы.

Видимо, такое впечатление исходит из скоротечности городской жизни этой акбаровой столицы. Она тут бурлила всего каких-то 15 лет. И хотя по обилию населения с Фатехпуром не мог тягаться ни один город тогдашней Европы (утверждают, тут насчитывалось более полумиллиона человек), 15 лет – очень маленький срок для того, чтобы наследить на улицах, обжить стены и напитать кварталы той аурой, которая так возбуждает и пленяет воображение любого, кто только сталкивался с притяжением исторических руин. Фатехпур так и не превратился в настоящие развалины. Столица была оставлена ещё при жизни самого Акбара. И перенесена в далёкий Лахор. Этого требовала политическая напряжённость, возникшая в западных районах Империи, наиболее проблемных на тот момент.
Впрочем, в Лахор – тоже ненадолго. Кочевые гены тюрков не позволяли Акбару долго сидеть на одном месте. Гены предков и талант государственного деятеля. Очень скоро и император и двор вновь оказались в Агре. Но отчего не в Фатехпуре?
Забвение по знамению
Моголы совершали много неординарного и экстравагантного. Однако случай со строительством и забвением Фатехпура выделялся и на этом фоне. История эта породила массу домыслов, которые позже стали мифами.
Почему же они покинули город?
…Говорят, что по прошествии 15 лет, в один прекрасный день грозный падишах (именно так повествует легенда) вышел на высокую стену своей новой столицы и с ужасом увидел, что озеро, питавшее водой город, исчезло! А на его месте зияет покрытая грязью котловина.
Сейчас мы могли бы быстренько всё это объяснить с позиций геологии и всяких карстовых явлений. Но тогда всех жителей Фатехпура объял необыкновенный ужас перед Богом (или богами – в данном случае разницы никакой), которого они, возгордившись, прогневили. А это бедствие пострашнее землетрясения или вражеской осады! Проклятый город был обречён, а потому оставлен без промедления. Последний день Фатехпура по накалу страстей вполне сопоставим с последним днём Помпей!
Так и лежали его зарастающие и медленно разрушающиеся стены, в течение трёх веков пугая окрестных жителей своей грозной тайной. Таким и предстаёт он теперь пред многочисленными туристами – молчаливым и зачарованным, заколдованным и застывшим.
Главную прелесть монотонно красивому красному камню придают… индианки в своих ярких сари. Словно волшебные цветки расцветают по мановению невидимого садовника то там, то здесь – в самых неожиданных местах: рощах колонн, тёмных проёмах дверей и окон, у давно замолчавших фонтанов, на фоне высвеченных вечерним солнцем резных стен, среди зелёных лужаек дворцовых садов.
– Как зовут тебя, прекрасное дитя? – спрашиваю у одного из проплывающих мимо цветков.
– Чандрагупта…
О, Господи! Да из каких же ты веков, Чандрагупта? Что в имени твоём? Сколько всего воскресило оно в памяти из индийской истории! Великий Маурья Чандрагупта – современник похода Александра Македонского… Времена Калидасы – Чандрагупта Первый и Чандрагупта Второй… Имена грозных властителей прошлого несёт в себе ныне эта гибкая и хрупкая девочка в голубом сари. Чудно!

…Я бывал в Фатехпуре неоднократно. Но при упоминании о нём во мне всплывает именно эта картинка. Юная индианка в голубом сари, выплывающая из безмолвного краснокаменного дворца Акбара Великого. Или… нет, не из дворца, из какого-то другого, непостижимого всеми прочими мира. Словно сама воплощённая Индия…
Раджастхан: заповедник индийского духа
Раджпуты ведут свою родословную от Солнца, Луны и Огня. Так что их гордое и несколько напыщенное самоназвание, которое можно перевести как «дети царей», имеет славное основание. Но уважают их в Индии не потому, что они от Солнца, а потому, что дух раджпутов издревле был примером беззаветного героизма и несгибаемой стойкости. Земля раджпутов – современный штат Раджастхан – являет собой идеальную арену для жизни героев. Самый жаркий район знойной Индии, прижатый к пустыне Тар, Раджастхан тем не менее первым принимал на себя удары многочисленных завоевателей. И принимал с честью!
Бхаратпур – птичий рай
Первый раз я побывал в Раджастхане случайно. Появилась возможность смотаться из Агры в знаменитый птичий заповедник Каоладео-Гхана, что рядом с Бхаратпуром. И я смотался. Заповедник этот, как и многие современные резерваты, некогда служил охотничьими угодьями. Для британской администрации. А до британцев – для раджпутских раджей.
Раджпуты всегда были ярыми индуистами. Как же сочетались в них постулаты о ненасилии с убийствами животных? Запросто! Индуизм вообще-то настолько пластичная религиозная система, что в ней может найти место всё, даже противоречащее, как кажется, самим основам. Сами же раджпуты считали, что могут убивать и есть мясо, потому что всегда должны поддерживать своё мужество на должной высоте.

Каоладео-Гхана – заповедник небольшой, но обильно населённый. Особенно зимой, когда на местные болота прилетают с далёкого севера неисчислимые стаи пернатых. Собственно, «далёкий север» для Индии – это наши места. Так что всех этих оперённых путешественников я в большем изобилии видел в дебрях Прибалхашья. Вся разница в том, что тут на каждую птаху приходится по туристу с огромным биноклем или фотокамерой, снаряжённой полуметровым объективом. А у нас можно неделями находиться со всей этой «пернатой сволочью» наедине. (Интересно, отчего же это орнитологи-любители из Европы стадами прут в Индию и игнорируют наши раздолья?)
Знакомство с заповедником запомнилось мне не птицами. А удавами, которых мы с проводником-сикхом искали в сухих зарослях каких-то колючих кустов, стальные иглы которых насквозь прошивали подошву ботинок. Подойти к питонам близко никак не удавалось, как тихо мы ни ступали. Змея – это почти сейсмограф, улавливающий малейшие колебания земли всем своим телом. Не подпустив даже «на расстояние снимка», питоны тихо и изящно всасывались в норы.
Потом, правда, попался один особо философичный родственник Каа – распаренный солнечными лучами и расслабленный хорошим обедом (об этом свидетельствовало вздутие посередь изящного тела). Это был четырёхметровый питон, вполне уверенный в своих силах, а оттого не очень-то взволнованный приближением каких-то «лягушат». Странно, но рядом с этими гигантами вовсе не испытывалось того инстинктивного страха, который пронзает, если натыкаешься на маленькую гадюку или даже ужа. Когда наконец наше внимание наскучило, питон не спеша начал скрываться в норе, и я, вконец обнаглев, попытался ухватить его за кончик хвоста. Хвост был мягким и тёплым. И сильным – таким, что если бы у меня и была стальная хватка, то он, наверное, утащил бы меня под землю за собой…
Страна индийских рыцарей
Над Бхаратпуром, ближайшим местным городком, на вершине скалы гордо высились стены замка местного раджи. Таких замков по Раджастхану понатыкано великое множество. На том, как говорится, стоит. Всё это, вкупе с пустынными равнинами и иссушенными зноем горами Аравали, придаёт типовому пейзажу Раджастхана некоторое сходство с Палестиной, на скалистых холмах которой всё ещё возвышаются живописные руины крестоносных замков.

Раджпутов, так же как и европейских крестоносцев, называют рыцарями. Это благодаря оригинальному кодексу чести – «раджпути», которым была пронизана вся жизнь воина-раджпута. Хотя «воина» в этом словосочетании можно опустить – настоящий раджпут всегда был настоящим воином, гнушавшимся любой другой деятельности, кроме как проявления бранной доблести. Раджпуты стали квинтэссенцией кшатриев, военной варны, известной со времён появления в Индии ариев. С их ратным искусством, а главное – с их боевым духом должны были считаться и Великие Моголы, и британские завоеватели. Они и до сих пор составляют значительную часть в рядах индийской армии.

Впрочем, если уж сравнивать средневековых раджпутов с рыцарями, то они нечто среднее между европейскими феодалами и японскими самураями. Куртуазность европейцев в них удивительным образом сочеталась с жертвенностью японцев. Хотя и тех и других раджпуты явно превосходили. Европейские замки конечно же не могли поспорить в роскоши с замками Раджастхана, а японские ритуальные самоубийства путём вспарывания собственного живота бледнели на фоне «шаки» – «битвы-жертвы», на которую выходили обрёкшие себя на смерть в неравном бою воины «виры».



