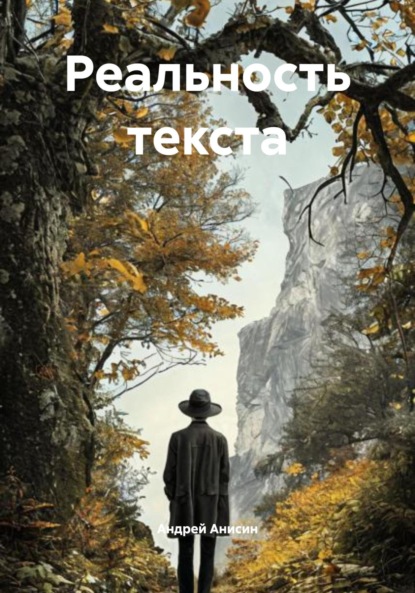
Полная версия:
Реальность текста
Однако фразы, промелькнувшие только что (и подобные им): «возвестил Барт», «по словам Барта», «считает Барт», – позволяют заподозрить, что слухи о буквально понятой смерти Автора, по крайней мере, несколько преувеличены. Буквальное понимание вообще чаще всего не делает чести мыслителю (который понимает, или которого понимают). Попробуем быть ЧЕСТными.
Барт фиксирует тот очевидный факт, что европейское сознание все дальше отходит от того, чтобы слышать в тексте голос конкретного человека. Труд переписчиков сохранял еще в какой-то мере этот живой голос. Хотя определенная организация книжного листа и тома в целом явно придавала книге вид изделия с самостоятельным значением, но сама малая численность книг, когда практически всякая была библиографической редкостью и совершенно уникальным произведением, подчеркивала уникальную самобытность авторского голоса, звучащего в тексте. Изобретение книгопечатания, во-первых, усилило эту тенденцию превращения книги в «самостийную» вещь, а во-вторых, свело на нет уникальность каждой отдельной книги. Развитие периодической печати и «массовой литературы» окончательно превратило книгу из авторского произведения в предмет обихода, притом обесценив его из мастерского изделия в продукт труда рабочего-поденщика. Уже не люди пишут, а «пишут газеты», не люди, а средства массовой информации «имеют определенное настроение и мнение», «выражают удовлетворение или обеспокоенность». Средства массовой информации наряду с уже совершенно безличными формами слова в виде рекламы, инструкций, информационных сетей и т.д. ставят текст в один ряд с природными условиями существования12. Все это совершенно определенно представляет собой «болезнь к смерти» для фигуры Автора.
Но, конечно, только лишь указанием на обезличенный характер массового производства речевых конструкций смысл провозглашенной Бартом смерти Автора не исчерпывается. Как мне представляется, речь идет о различении двух инстанций, если не отождествляемых, то, по крайней мере, тесно коррелированных ранее: во-первых, это «скриптор», как реальный человек, записывающий некий текст, рождающийся в этом качестве одновременно с текстом и уходящий со сцены в небытие после выполнения этой функции, и во-вторых, «Рассказчик», как внутренняя составляющая текста, как то «Я», от имени которого ведется повествование. Этот «Рассказчик» присутствует не только в текстах, написанных от первого лица, когда автор вводит в произведение «самого себя» в качестве героя или персонажа, наподобие Данте, показывающего читателю свой Рай и Ад. Даже если автор не использует местоимение «я», оно подразумевается рассказом. Даже если он говорит о себе в третьем лице или обращается во втором, его речь все равно звучит от первого лица.
Высказываемое текстом высказывается из этого имманентного тексту «Я» и адресуется трансцендентной фигуре Другого, которая именно в силу этой своей внеположенности в рамках такого адресования сообщает тексту его энергетический потенциал. Это и является простейшей схемой динамики текста.
Вернемся к Автору. Божественной роли Творца, творящего по произволу, от избытка и «ex nihil», мы его лишили, сведя его в этом плане до скриптора. Но вне этой функции он является таким же полноправным членом общества, как и любой из его читателей. Вышеописанная «смерть», представляющая собой распадение Автора-Бога на скриптора, записывающего текст и Рассказчика, чей голос звучит как голос текста, означает лишь отмену всех возможных привилегий во взаимодействии с текстом. Умерши, как Автор, в своей «теологически значимой» функции, автор, как личность13, имеет с текстом свои отношения: «на общих правах», но, тем не менее, совершенно уникальные, как, впрочем, совершенно уникальные отношения с текстом имеет и любой из читателей.
Тот факт, что даже в случае употребления в тексте местоимения «я», автор никогда не может полностью отождествить себя с этим «я», тот факт, что уже сама процедура письма обособляет и разделяет «Я», существующее в тексте и авторскую личность, собственно, и сводит роль автора в возникновении текста до скрипторской функции. Когда Барт говорит о том, что текст не замышляется, не вынашивается уже автором, это кажется парадоксальным, но, тем не менее, это так. Некий авторский замысел, разумеется, как и раньше, предшествует тексту, однако на стадии его реализации сюда вмешивается нечто такое, что сводит этот замысел на роль повода, диктуя что-то свое, что и станет источником смыслообразующей идеальности текста.
Таким образом, автор в неменьшей степени, чем читатель (или читатель в неменьшей степени, чем автор) оказывается соучаствующим свидетелем тех коллизий, которые разворачиваются в тексте. В каком-то смысле это можно назвать «диалогом», но на деле это – общее предстояние, совместная обращенность к абсолютно Другому, чему-то, находящемуся там, куда обращается текст. Возможность оказаться в такой соотнесенности с трансцендентным, открываемая текстом, и составляет существенный его (текста) смысл. V
Принципиальная идентичность (не отменяющая собой совершенной уникальности) отношения к тексту как автора, так и любого из читателей, обусловлена еще и тем, что текст должен быть прочитан, озвучен хотя бы во внутренней речи, а это неизбежно ставит всякого соприкасающегося с ним в положение исполнителя, то есть Рассказчика, то есть внутрь текста. Возможность этого обеспечивается тем, что место Рассказчика пусто, – по всей видимости, после смерти Автора. Иначе говоря, речь текста существует реально и содержательно, она даже носит весьма напряженный характер, и исток ее дан не менее реально, но – в качестве полости, ниши, куда поставляется любой человек, имеющий дело с текстом. Можно, конечно, не ограничиваясь этой функцией Рассказчика, воспринимать текст еще и отстраненно, но невозможно отказать тексту, не разрушив его.
Работа «Смерть Автора» с излишней, может быть, категоричностью и радикализмом декларирует именно это состояние разрыва и нетождественности голоса текста и авторской позицией при его написании, имеющее свое практическое следствие в пустоте места Рассказчика. То, что автор, имея определенные идеи и намерения, создает произведение, всегда выходящее за рамки этих предварительных установок, уже успело стать банальностью и, как всякая банальность, не располагает к продумыванию. Мы, однако, попробуем помыслить в этом направлении, несмотря на то, что банальностью давно уже стало и объяснение этого факта: вспомним, что у Данте (наподобие которого Рассказчик водит нас по Раю и Аду) был проводник по царству мертвых – Вергилий. Каждый автор также ведом своими литературными предшественниками и их классическим наследием, ведом литературной обстановкой современности и модой, – то есть всем тем, что называется традицией. (Мода – есть актуальность традиции, если традицию понимать как акт). Более того, автора ведет язык, предшествующий этой традиции не столько исторически, сколько сущностно, и полагающий основание не только литературы, но и вообще всякого человеческого способа проживания бытия. Тот же самый язык ведет и читателя в понимании и истолковании текста.
Однако прежде чем задаваться вопросом, куда и как ведет нас язык, мы обратим свое внимание, то есть попробуем внять и внятно высказать, как и где совершается, и что она такое есть – ТРАДИЦИЯ.
АРХЕТИПЫ ТРАДИЦИИ
Когда мой Черный Дрозд исчез из глаз,
Была очерчена граница
Лишь одного из многих кругозоров
Уоллес Стивенс»13 способов видеть Черного Дрозда»
(способ №9)
Обычно традиция противопоставляется новаторству в смысле отождествления ее с консерватизмом. Традиция представляется в виде обычая, – привычного, отработанного до автоматизма навыка жизни в определенных условиях. И те, кто ругает традиционность, и те, кто ее восхваляет, имеют в виду именно это: законсервированность определенной структуры бытийных характеристик человека. Только для первых консерватизм – это тормоз, мешающий людям свободно развивать свои силы и реализовывать свои замыслы, а для вторых этот же самый консерватизм – не болезнь, а здоровье, не слабость, а основание силы.
И та, и другая точка зрения имеют свои резоны, но самое главное, – они обе смотрят все-таки поверхностно. Ведь очевидно, что любой революционный проект, любая самая невероятная утопия всегда имеют если не образец, то хотя бы некоторый прообраз, если не в реальной истории, то, по крайней мере, в истории идей. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но (это) было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9-10), – так говорит мудрость. И точно так же совершенно очевидно, что просто невозможно руководствоваться всеми теми нормами жизни, которые выработало человечество: причем не столько даже в силу громадности совокупного человеческого опыта в количественном измерении, сколько по причине качественной его неоднозначности: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», – народная мудрость, но ведь и «Дураков работа любит», – не менее народная и не менее мудрая мысль. Можно приводить много примеров, когда не только такие – противоположные, но взаимодополняющие пословицы, – но и прямо взаимоисключающие мысли фигурируют как выражения традиционной народной культуры.
Иначе говоря, любой нонконформист и ультрареволюционер всегда, сознательно или бессознательно опирается на вполне определенную традицию мысли и действия, на определенные пласты прошлого; как и любой замшелый реакционер и консерватор всегда избирательно относится к прошлому, кое-что в нем вознося на пьедестал, а кое-что отбрасывая с большим или меньшим протестом. Революционер и консерватор отличаются не по отношению к прошлому, а по отношению к настоящему, каковое отношение и формирует тот или иной подход к прошлому, как принцип отбора образцов для подражания.
Таким образом, независимо от точки зрения – революционной или реакционной, западнической или славянофильской, либеральной или тоталитарной – в качестве задачи встает: попытаться найти и воспринять в прошлом «свое». Во-первых, найти, ибо без такой опоры невозможно никуда двинуться. Во-вторых, воспринять, то есть сделать «свое» СВОИМ, воспроизвести его в себе. Разумеется, это не есть два этапа процесса и даже не две его стороны, – это лишь два возможных взгляда на акт традиции, – обретение наследия, то есть выделение его в качестве должного быть моим, возможно реально лишь как усвоение и воспроизведение прошлого, усвоение хотя бы в качестве задачи и воспроизводство хотя бы в мысли, – усваивать же и воспроизводить можно, лишь формируя определенное видение прошлого, выделяя в нем то, что достойно подражания.
Традиция может быть представлена как tra(ns)di(c)tio14, как «говорение через, говорение за пределы». Она есть последовательная передача некоего изначального бытийного опыта. Она есть цепь, взявшись за которую, человек оказывается связан – сквозь толщу тысячелетий истории, сквозь толщу собственной самоуверенности – с первичной вестью бытия. И дело не только в том, что, сидя на плечах гигантов, получаешь большой обзор, – скорее, включение в традицию впервые вообще создает возможность собственно человеческого бытийствования.
Совершенно очевидно наличие научно-технического прогресса в ходе человеческой истории, очевидно и ускорение его в последние времена. Но столь же очевидно отсутствие прогресса в сфере духовной, полная независимость уровня развития способностей к духовной жизни от характера и уровня развития технической цивилизации, от материальных условий жизни. В духовном плане человечество в лучшем случае пребывает на определенном «эталонном» уровне, и уровень этот обеспечивается освоением традиции, включением в преемство, благодаря которому человек, независимо от своего положения в истории, оказывается в самом начале, у истока всего, внутри того момента, когда все зачинается. VI
«Все, что не в традиции, то плагиат», – заметил однажды Игорь Стравинский. Эта парадоксальная фраза, тем не менее, совершенно справедлива. Стоящее вне традиции не может быть оригинальным, то есть идущим ab origine – от начала, оно лишено связи с Началом, а потому все, что оно имеет, есть plagiatus – похищенное, все, что оно может сказать, есть повторение расхожих речевых штампов и мыслительных клише, – таковы, как правило, детские и подростковые стихи, и другие «литературные» произведения.
Мы попробуем присмотреться к тому, как осуществляется традиция, то есть преемственная передача приобщенности к первичной вести бытия.
Не является новостью, что наша европейская культура в определяющих своих чертах сформирована, во-первых, античной Грецией, а во-вторых, (через христианство) еврейским библейским видением мира. Разумеется, речь не идет об аутентичном воспроизводстве указанных культурных типов, но присутствие практически в любом явлении европейской духовной культуры этих архетипов несомненно. Этот факт отмечен уже Тертуллианом на рубеже – вв. в его противопоставлении Афин и Иерусалима, и, хотя им это противопоставление решается однозначно в пользу Иерусалима, в духовной истории Европы эта дилемма неразрешена и, по-видимому, неразрешима. По видимому, это – как две ладони, благодаря встречному движению которых только и возможен хлопок, попытки приписать его только (или по преимуществу) одной из сторон не просто что-то упускают из виду, а сводят на нет саму возможность события.
Итак, греческое любомудрие и еврейское библейское чувство на равных основаниях являются теми полюсами, взаимодействие которых создает некое поле европейской культуры. Содержательно противоположность Афин и Иерусалима формулировалась уже неоднократно: самозарождение или тварность мира, круговой или линейный характер истории, циклическая вечность мира или ожидание Страшного Суда, вера в Судьбу или в Промысл Божий, ориентация в познании на вещей или на Божественное Откровение, – таковы основные пункты этого противостояния. Исходя из этого, можно даже выделять в европейской истории этапы преобладания того или другого культурного архетипа, однако наше намерение состоит в другом: сконцентрироваться не на содержательной, а на формальной стороне традиции, не столько на том, что передается, сколько на том, как это нечто передается в рамках традиции.
На первый поверхностный взгляд еврейская культура предстает традиционной, то есть озабоченной лишь сохранением уже приобретенного знания, уже устоявшихся обычаев и навыков знания (в смысле вышеупомянутого консерватизма), а греческая, напротив – «новаторской», если можно так выразиться, то есть ориентированной на индивидуальный поиск истины, на поиск свободный от всех внешних авторитетов и предрассудков (то-то ее так любят все «революционные» эпохи). Не говоря уже о том, что этот взгляд совершенно поверхностен в отношении Греции, где, безусловно, были вполне определенные культурные – философские в частности – традиции, были учителя и ученики, были школы и авторитеты, но даже по отношению к евреям это понимание является большим упрощением: хотя бы в целях сохранения богооткровенного знания, необходимо было не просто механически передавать его из уст в уста, а сохранять его жизненность через все новые – неизбежно творческие – толкования.
Понятие традиции схватывает единство этих двух моментов: преемственность и обновление, сохранение и изменение в акте передачи. Но следует сделать и еще одно уточнение и выделить в осуществлении традиции еще два ее момента, также немыслимые один без другого и раскрывающиеся лишь во взаимоединстве. Речь идет о том, что всякая передача культурного наследия в широком смысле осуществляется через, во-первых, трансляцию знания, и во-вторых, передачу способов этой трансляции. При этом и само знание оказывается прочно связанным по своему характеру с тем способом передачи, каким его возможно передать, и сама передача знания есть еще и демонстрация необходимого способа передачи этого знания и научение ему. С точки зрения единства этих взаимосвязанных моментов мы и попробуем рассмотреть, что и как передавалось в греческой и еврейской культурах, чтобы перейти затем к рассмотрению тех способов передачи знания (и способов передачи этих способов), которые составляют суть европейской традиции.
Лаконичный стиль изложения, присущий греческому языку и греческой культуре мысли, нашел свое выражение в частности в том, что зачастую доказательство геометрических теорем сводилось к рисунку и надписи: «СМОТРИ». Теорема Пифагора, например, доказывалась так VII.
На наш взгляд, такой способ передачи знания посредством демонстрации, апеллирующий к зрительному восприятию, является конституирующим для греческой традиции. При этом не обязательно речь идет о физическом зрении, хотя роль именно пластических, наглядных искусств в греческой культуре общеизвестна. Не менее сильны греки своим умозрением, которое ведь тоже есть некий способ показывания – demonstratio, задачей которого является достижение ясности, прозрачности вокруг интересующей нас вещи, ее однозначной выделенности в ряду других вещей, зримой выпуклости ее определяющих черт. Достижение четкости, сфокусированности, удобного ракурса взгляда того, кому вещь показывается, составляет, по сути, процедуру доказательства (показательства).
В греческой культуре ни сама эта процедура, ни слова, которыми о ней говорилось, ни несли того юридического смысла, который был придан им латинским Западом. Для людей, воспитанных на Цицероне и кодексах римского права, «доказать» и стало означать то, что мы слышим в этом слове сейчас: «припереть к стенке», «заставить согласиться с неопровержимыми уликами», «заткнуть рот и не оставить ни малейшего шанса на возражения». Греки понимали доказательство своих теорем и философских систем как обнаружение, достижение некой открытости истины бытия, как поставление человека (ученика) перед этой истиной и обеспечение ему возможности видеть ясно. В этом смысле, говоря о различных мыслительных традициях внутри греческой культуры, мы говорим о различных традициях взгляда на вещь: о различиях, касающихся его ракурса по отношению к вещи, его сфокусированности на тех или иных ее проявлениях, о различиях в ширине горизонта и глубине резкости.
По отношению к еврейской культуре талмудической учености мы можем, видимо, говорить о принципе «СЛУШАЙ», который отличается от греческого «СМОТРИ» так же, как отличается слух от зрения, как отличается «смотри туда» от «слушай сюда». При более вдумчивом отношении и переходя от способов передачи знания к способам передачи этих способов, можно увидеть («СМОТРИ»), что греческая традиция реализует себя главным образом – хотя и не только – через организацию внешних условий взгляда, вытаскивая на свет вещей – ту природу, что, по Гераклиту, «любит таиться»: она является передачей именно способов обустраивания зрительно-мыслительного поля, с тем чтобы возможным было воспринять некую весть бытия: истину, как непотаенность (). В отличие от этого еврейская традиция, выступающая в форме толкования Откровения, в форме растолковывания, как донесения до слуха бережно несомой вести, занята главным образом организацией и передачей способов организации внутренних условий восприятия, настройкой слуха, с тем чтобы для него возможным стало вместить передаваемое неповрежденным.
Указанное отличие, конечно, в известной степени условно и обозначает лишь тот или иной акцент в организации условий передачи знаний и опыта: акцент на внутреннюю или внешнюю сторону процесса. Однако эти незначительные акценты, наслаиваясь, образуют два совершенно различных облика взаимодействия учителя и ученика:
учитель ставит ученика рядом с собой и направляет его взгляд, для того чтобы показать ему, как следует смотреть
учитель сажает ученика перед собою и настраивает на нужный тон, чтобы поведать ему нечто весьма важное
Различия в способе транслирования обусловлены, конечно, различиями в предмете трансляции: либо мы пытаемся передать знание, как ясное видение истины мира, либо – аутентичную весть Откровения, как отчетливое слышание слов Писания, – является ли целью, чтобы ученик узрел или внял нечто.
На чем же основывается европейская традиция? В ней, сформированной христианским мировосприятием, выделенные нами архетипы, на первый взгляд, сочетаются, а по сути, – рождают нечто совсем оригинальное (из-начальное в вышеуказанном смысле). В христианском понимании традиции присутствуют оба описанные выше способа взаимодействия учителя и ученика. С одной стороны – институт оглашения с его «посвящением в тайны» и дальнейшее приобщение к Таинствам предполагают «поведывание и внимание» по принципу «СЛУШАЙ». Но с другой – «то, что предлагается всей церковной традицией, – это «научение глаз»: встань, как я, сюда и смотри»15, и налицо явная параллель с греческим «СМОТРИ» и организацией внешнего поля зрения, которое выстраивается здесь в перспективе универсальной соотнесенности с Богом, в перспективе искупительной жертвы Христа и христианской эсхатологии. Но, все-таки, прежде всего, – «"постановка" души, обретение правильного строя духа и передача опыта этого обретения и есть назначение Церкви»16, и, значит, все-таки, внутренний аспект, внутренняя настройка кардинально важны в христиански понятом принципе «СМОТРИ».
В некотором приближении христианское понимание традиции, заложившее основы европейской культуры, ближе к греческому типу передачи знаний и ценностей, она больше похожа на совместное предстояние, в котором учитель научает ученика стоять и видеть самостоятельно, здесь мало от еврейского начетнического заучивания и втолковывания. Однако следует иметь в виду, что предмет предстояния не является у христиан чем-то внешним, как у греков: «Дети мои, – пишет апостол Павел, – для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4:19). Изображенность в человеке Личности Христа – вот что составляет суть реализации духовного сыновства в христианстве, вот что составляет смысл христианской традиции. Воспроизводится здесь и передается ситуация предстояния Богу, религиозная ситуация восстановленности связи (re-ligio) с Богом, передается навык и опыт встречи с Ним. И эта встреча происходит таким образом, что Христос «изображается в вас», что Царство Божие делается «внутрь вас».
Это чувство близости Бога, близости сверх всякой меры, невыразимо близкой близости берет свое начало в еврейской религии, которая впервые получает Откровение Личности Бога, несводимой к Его природе. Природа Его непознаваема и трансцендентна, является совершенно закрытой для человека, но Личность мобильна и открыта, Она открывает Себя человеку, свободно желая того, в чем не нуждается Бог по Своей Природе. В довершение этого ветхозаветного Откровения Бог в Иисусе Христе стал человеком, воссоединил в Себе человека с Богом, сделав возможным реально обожение через реальность Личности Христа. Благодаря этому то, в предстояние чему поставляет человека христианская традиция, раскрываясь в Богочеловеческой Личности, оказывается не внешним только для человека, но и сокровенно внутренним для него, точнее – втягивающим предстоящего в самое средоточие своей внутренней жизни. Именно в этом смысле и в этой взаимосвязи следует понимать евангельские слова о том, что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21) и что «Царство Мое несть от мира сего» (Ин. 18:36).
Человек, вошедший в такую религиозную ситуацию, измененный религиозной реальностью, человек, в котором, по слову апостола, «изобразился Христос», и есть человек христианской традиции. Такой опыт усвоения благодати предполагает участие в его передаче не только зрения (или умозрения) или слуха (или внимания) или даже обоих их вместе, но задействование всего целостного существа человека. Передача такого опыта находит свою реализацию через сердце, – так выражает христианство это целостное задействование. Передается здесь «потаенный сердца человек» (1 Петр. 3:4), некий «внутренний человек, обновляющийся во вся дни» (2 Кор. 4:16). При этом «сердце, как орган религиозного восприятия, должно быть отличаемо от души, ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и, так сказать, центральнее, чем психологический центр сознания. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсолютный центр»17.
Традиция сердца (трансляция сердца) имеет, по сравнению с греческой и еврейской, и еще одно важно отличие, помимо предмета и характера предстояния: здесь ни одна ступень восхождения не является прочно и навсегда завоеванной. Греческие философы, если даже и сознавали, что совершенное знание недостижимо, то, по крайней мере, уже достигнутое имели как то, что у них ни при каких обстоятельствах не отнимется (это и восхвалялось ими как один из главных плодов занятий философией). Христианство полагает необходимым непрерывную работу восхождения, чтобы хотя бы остаться на прежней высоте: «как бы высоко ни продвинулся человек по пути обожения, ему не дано закрепить за собой, сделать своим неотчуждаемым достоянием все, чего он однажды достиг на этом пути… Избавить от опасности падения и утраты благодати может только одно: непрерывное возобновление духовного усилия, его непрестанность»18. Уточняя, следует сказать, что избавить может только Бог, а непрестанность нашего духовного усилия дает возможность Богу это сделать.

