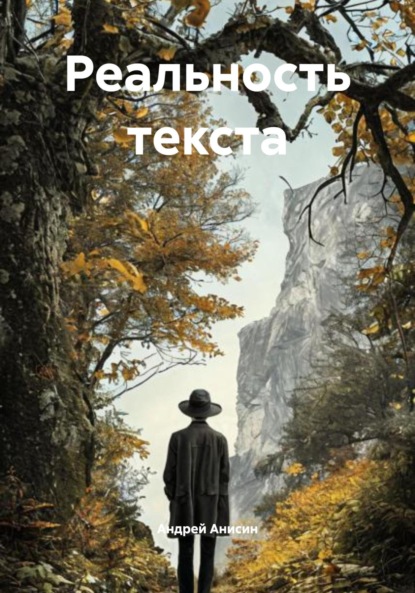
Полная версия:
Реальность текста
Предприятие Менара демонстрирует не только моральную ущербность рабства перед автором, но и его бесплодность. Триста лет не прошли даром, и этот текст не может уже быть написан (а значит – и прочитан) по-сервантесовски. Вкладывая в него те же мысли и намеренья, чувствуя так же, как Сервантес, отождествившись с ним, мы получим другой текст, а чтобы написать тот же, нужно иметь в виду другой смысл и писать по-другому. Перед Менаром стояла безмерно трудная задача: исходя из уже имеющегося опредмечивания, найти в себе такое направление взгляда, такую творческую интенцию, которые могли бы к этому опредмечиванию привести. И он добился чрезвычайно многого.
Мне хотелось бы в этой связи обратиться к великолепному эссе Х.Л. Борхеса «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"»3. Борхес приводит строки из романа Сервантеса: «истина – мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему», в устах которого это звучит чисто риторическим восхвалением истории, и удивляется, насколько по-другому воспринимаются слова Менара: «истина – мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему». Действительно, совершенно разный смысл и интонация: во фразе Сервантеса, например, для меня всегда проходит незамеченной мысль «история – мать истины», тогда как у Менара она сразу бросается в глаза. Борхес склонен даже считать это двумя разными текстами, говоря, что написанное Менаром «тоньше и глубже», что его «Дон Кихот» «бесконечно более богат по содержанию»4. Но это слишком легкий и искусственный выход из положения. Менар создал именно тот же самый текст, мы чувствуем это, и как раз этот-то факт вызывает отчаянное неприятие, покушаясь на наши привычные представления, вызывая недоуменные вопросы. Что же в таком случае есть текст? Что такое смысл и есть ли он внутри текста? Как же автор? Разве «Дон Кихот» не написан Сервантесом? А если написан Менаром, то значит – это он автор? Но как можно быть автором, воспроизводя чужое? И чьи же все-таки мысли выражены в «Дон Кихоте»?
Ничьи. Текст вообще, в строгом смысле слова, не выражает ничьих душевных состояний, он является просто актом жизни языка. Эта мысль отстаивалась еще Стефаном Малларме и была продолжена Полем Валери. Предприятие Менара предельно обнажает эту полную индифферентность текста по отношению не только к трактовкам, но и к авторству. Если принять ту метафору, что понимание текста – это расшифровка, то надо добавить, что расшифрован он может быть бесконечным числом вариантов, среди которых нет единственно верного.
Но ведь вкладывал же автор смысл?! Нет, не вкладывал. Даже если хотел вложить четко фиксированную мысль, то вложил именно ту бесконечность смыслов, которую мы имеем, иначе бы текст не жил. Реставрация же авторских намерений – задача по большей части археологического, если не палеонтологического плана. Это тоже может представлять интерес, но имеет очень опосредованное отношение к жизни.
Но ведь имеет же все-таки значение имя автора?! Да, конечно, имеет, и именно в том случае, когда оно указано. На этом ловит нас Борхес, сопоставляя идентичные цитаты, и на этом ловится сам. Имя автора – определенный указатель, навязывающий способ расшифровки. Он не единственный, но, видимо, самый мощный. Конечно, есть разница, стоит ли на обложке имя Сервантеса или де Сада, но смени таблички – и не верь глазам своим. Сначала не поверишь, но потом, наверняка, сумеешь приписать содержание вывеске, и текст под действием этих сбитых указателей приобретет совершенно иной, фантастический смысл. Такое изнасилование текста путем ложных атрибуций является, конечно, великолепным интеллектуальным упражнением, ломающим наши стереотипы и заставляющим нестандартно осмыслять читаемое, но оно эксплуатирует все то же рабство перед Автором. II По сути, оно является все тем же привычным типом чтения, который всегда основан на том, что смотрят сквозь текст, точнее поверх его – на личность Автора и пытаются разглядеть в тексте проявления этой – уже преднайденной – личности.
В этот соблазн попадали и многие исследователи при объяснении того, почему Дон Кихот у Менара в 38ой главе, рассуждая о военном поприще и учености, делает выбор в пользу первого. В этом видели подчинение автора психологии героя, влияние Ницше, просто копирование романа Сервантеса, даже самоиронию. III Действительно, при таком подходе можно увидеть все: то, что нужно увидеть, то, что хочется, то, что навязано критикой, даже то, что хотел сказать автор, – кроме самого текста. Глядя поверх и ориентируясь на поиск окончательного смысла, детерминированного личностью автора, мы затыкаем рот самому тексту, а его жизнь – в том, чтобы говорить. И если мы хотим слушать голос текста, то нам, во-первых, нужно отбросить метафору расшифровки, как предполагающую пусть даже вариативную, но все-таки окончательность, и отказаться от пред-намерений и пред-установок. Разумеется, речь не идет о том, что наше взаимодействие с текстом должно начинаться с tabula rasa, он может говорить, а мы слышать именно в силу нашей общей погруженности в стихию языка, в сплетения смыслов и созвучий. Но такая пред-данность обуславливает уже не механическое обнаружение или конструирование смысла, она уводит нас в бесконечность игры аналогичной поискам утраченного времени у Марселя Пруста. Подобно прустовским фразам, эта игра увлекает нас в бездны ассоциаций, уточнений, подробностей и новых горизонтов, когда исходный пункт и первоначальное направление теряются даже, но зато обретается нечто большее.
Язык тотально и фатально двойственен: он принадлежит нам, и в то же время он автономен, мы можем говорить о нем и тем самым дистанцироваться от него, но само это дистанцирование происходит в языке и средствами языка. Именно эта двойственность не только открывает возможность игры с ним и в нем, но и делает такую игру единственно возможным способом самоосуществления и нас, и мира. Можно, конечно, изо всех сил окружить себя забором из культивируемых в обществе ходячих мнений, норм, стереотипов поведения и жить достаточно спокойно. Это не означает, что, не имея возможности играть с тобой, язык не будет играть тобою, причем порой весьма жестоко, используя как раз то, чем ты хотел обезопасить свою жизнь, но такая позиция легче переносится субъективно – в силу тех же расхожих представлений: есть удары судьбы и есть преодоление жизненных трудностей, есть страсти, душевные волнения и терзания и есть их оборотная сторона – в общем, есть мир со своими неожиданностями и перед ним мы с сознательной целью и средствами ее реализации.
Тогда как наш мир творится нами, не по нашему произволу, конечно, но именно нами, и нужно иметь безрассудную смелость и упорство взгляда, чтобы видеть это и на равных вступить в игру, не оставляя себе лазейки для отступления и перевода стрелок, взяв на себя дерзость партнерства с собственной языковой и бытийной определенностью.
И, все-таки, последний усталый вопрос: «Ну зачем это все было нужно Менару? Что же не жилось ему в мире и спокойствии?»
На мой взгляд, им руководила та же самая цель, с которой Дон Кихот сел на коня и поехал по грязным дорогам Ламанчи, Монтьеля и Тобосо, принимая трактиры за замки и мельницы за великанов.
Пьер Менар, действительно, является Дон Кихотом, и не в смысле «Эмма Бовари – это я». Фраза Флобера подразумевает вчувствование в героя, отождествление с ним ради правды художественного изображения, тогда как для Менара донкихотством стало само написание «Дон Кихота». Для него это не просто повествование, это прежде всего – действие, его речь представляет собой перформатив в чистом виде, она не является только средством сказать что-то, она есть то, о чем она говорит, ее содержание есть средство и способ для акта высказывания, для акта жизни, который один только и важен. Такое занятие, действительно, не может быть закончено, оно может быть только прервано.
***
Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
***
PS. Да, есть метафизические реки, и она плавает в них легко, как ласточка в воздухе, и кружит, словно завороженная, над колокольней, камнем подает вниз и снова стрелой взмывает вверх. Я описываю, определяю эти реки, я желаю их, а она в них плавает. Я их ищу, я их нахожу, смотрю на них с моста, а она в них плавает. И сама того не знает, точь-в-точь как ласточка.
Х. Кортасар «Игра в классики»
ДИНАМИКА ТЕКСТА
У меня было тройственное сознание:
Я был как дерево,
На котором три Черных Дрозда.
Уоллес Стивенс
«13 способов видеть Черного Дрозда»
(способ №2)
Не секрет, что в современной философской мысли понятие «текст» приобрело исключительно важное и широкое значение. Этим словом может быть поименована практически каждая вещь, попадающая в сферу внимания современного мыслителя. Собственно, представление о текстуальности всякой вещи и понимание всего мира как мегатекста имеет давнюю традицию, восходящую, по крайней мере, к средневековой концепции «двух Книг»: Книги Священного Писания и великой Книги Природы, которые Бог дал человеку. Эти два Откровения, – натуральное и непосредственное, – конечно, неравнозначны и неоднородны, но истолкование обоих ведет нас по пути богопознания, они дополняют и поддерживают друг друга. Современный зараженный постмодернизмом философ ничего уже не ищет, он понимает истолкование текста формально так же, как и средневековый или возрожденческий мыслитель: как уходящую в бесконечность цепочку комментариев, глоссариев и ссылок5, но для него это – не бесконечное углубление в неизреченную тайну богопознания, а самодостаточная (и потому – бессмысленная) бесконечность игры.
В нашей книге мы говорим о текстах «в прямом и непосредственном смысле этого слова», то есть о текстах вербальных, и прежде всего письменных. «Бытие, доступное пониманию, есть язык… Поэтому мы говорим не только о языке искусства, но и о языке природы, да и вообще о языке, на котором изъясняются вещи»6. Да, языков много, и каждый из них открывает некий путь, на котором, при вдумчивом и неотступном следовании, возможно встретиться с вестью бытия. Но феномен текста, сотканного в естественном языке, словесного и особенно письменного текста в качестве объекта исследования позволяет намного глубже проникнуть во внутреннюю жизнь текстовой реальности, почувствовать и описать те силы внутренней напряженности, которые эту жизнь порождают. текста, вынесенная в заголовок означает именно это.
В случае анализа письменной текстуальности возникает чрезвычайно интересная ситуация, когда сам текст исследования может быть помыслен как собственный объект, и сам язык исследования – взят как язык-объект. Такая постановка себя самого в позицию собственного объекта, применение своих положений и выводов к самим этим положениям и выводам составляет, видимо, необходимое условие всякого философствования. При этом наивным было бы, конечно, ждать, что уже в силу применения гомогенного инструмента исследования словесное творчество вмиг делается прозрачным, – как раз о таком технологическом подходе речь и не может идти. Достигается в точности обратное: раздваиваясь внутри текста, раздвигая собою текст и отражая друг друга, язык-субъект и язык-объект обнаруживают в себе бесконечную анфиладу отражений. Такова вообще философия, ибо «ее изначальная задача – делать вещи более тяжелыми (трудными), более сложными»7.
Если еще уточнить смысл и значение этого двуединства языка исследования и языка-объекта, то следует вспомнить о «дегуманизации искусства», как ее определяет Х. Ортега-и-Гассет. Она представляет собой не просто отрицательное движение отказа от выражения «исконных, первообразных чувств, которые моментально и безоговорочно пленяют сердце доброго буржуа»8, но, кроме того, утвердительный момент обращения искусства к собственной сути. Не отображение объективной реальности, а раскрытие художественного видения этой реальности становится делом искусства, и не созерцающий буржуа, а творящий художник делается не только автором, но и адресатом произведения. Именно в прояснении собственной сути состоит утверждающий, положительный момент такого замыкания искусства не самом себе, ведь лучший способ сказать что-то о музыке – это написать о ней музыку (такую музыку о музыке пишет, например, по его собственному признанию Юрий Ханин). Так же, как единственный адекватный способ сказать что-либо по существу о поэзии – это поэтический текст, ориентированный на себя, – и в этом смысл «герметичности поэзии», провозглашенной Стефаном Малларме. IV
И так же, как живопись не сводится к линиям, формам и цвету, а музыка – к звукам, которые являются средствами выражения чего-то, стоящего за этими линиями и цветами, за звуками и ритмом, чего-то, что и является живописью и музыкой в собственном смысле этих слов, точно так же и текст не сводится к графике письма и акустике голоса и проявляет свою суть по ту сторону того и другого. К тем вещам, которые «по ту сторону» речи – устной или письменной – мы и хотели бы прикоснуться.
М.М. Бахтин определяет в качестве единицы речи «высказывание», понимая его как некий целостный носитель целостного смысла. Высказывания могут быть очень короткими – в одно слово, могут быть очень большими – в целую книгу, важно, что несут они некоторый законченный смысл, ответ на определенный вопрос («то, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»9). Однако очевидно, что текст, как таковой, обладает гораздо более сложной природой. Он состоит из высказываний, но не сводится к их сумме, он сам в целом является высказыванием, но не сводится к этой роли, к своей коммуникативной и информативной функции. В речи всегда звучит не только больше, чем говорящий должен сказать (очевидная информационная избыточность языка), и не только больше, чем он хочет сказать, но и больше, чем слушатель способен четко и осознанно уловить, больше, чем он способен спросить: «а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса» (В. Высоцкий). «О хорошем стихотворении никто не скажет, откладывая книгу: «Я уже знаю его». Наоборот: чем лучше я его узнаю, чем глубже понимаю… тем больше может сказать мне по настоящему хорошее стихотворение»10. Причем это в полной мере относится к любому тексту, не только к стихам; эта глубина порой совершенно неожиданно обнаруживается в речевых событиях казалось бы совсем чуждых поэзии. Эти двери в небо могут распахнуться перед нами всюду, где присутствует язык. В свете этого ясно, что нас интересуют, собственно, тексты художественные – в широком смысле, в том смысле, что практически любой текст может быть увиден как текст художественный, раскрывающий нам вышеупомянутые двери.
Теперь попробуем, все-таки, сосредоточиться на том, каким образом текст существует, и какова его внутренняя организация. Попробуем сосредоточиться, несмотря на то, что то текст, который я пишу сейчас, так и норовит выйти из намеченной уже необходимой колеи последовательного изложения тем и каждой своей (или моей?) фразой провоцирует меня (или себя?) эти темы начать обсуждать все разом, а потом, не окончив, перескочить на другие, более в этот момент интересные. Попробуем все-таки сосредоточиться, потому что в отличие от текста, который я сейчас пишу, текст, лежащий сейчас перед читателем, вовсе не столь болтлив в отношении своих возможностей и перспектив. Он – «другой» текст в другом «сейчас».
Текст никогда не проболтается о своих возможностях. В этом – его заявка на богатство, и в этом парадокс, по крайней мере, на первый взгляд: в свете того, что говорилось только что о невмещаемой нами щедрости текста, и в свете здравого смысла. Ведь назначение текста и обеспечение его существования в том, чтобы быть читаемым и понимаемым: именно и только через интерпретацию текст входит в культурную среду и начинает жить. Хотя бы один читатель для этого нужен, в крайнем случае, – сам автор.
Как правило, обыденное представление об авторе и читателе сводится к тому, что первый «выдает на-гора» и складывает в огромный сундук культуры некие свои произведения, которые затем оттуда берутся и интериоризируются вторым действующим лицом в свой внутренний мир, который здесь, собственно, и является единственной духовной реальностью, за исключением, разве что, духовного мира автора, но о нем ничего нельзя знать, кроме того, что пробуждено его книгами в душе читателя. Поверхностное кантианство давно уже стало общественной идеологией.
На мой взгляд, было бы гораздо правильнее высказаться прямо противоположным образом: через фигуру Автора – в акте написания – текст вы-ходит, выделяется из культурной среды: происходит нечто подобное «кристаллизации любви» по Стендалю: авторский замысел, как невзрачная ветка, опущенная в перенасыщенный соляной раствор, обрастает волшебными узорами, кристаллизующимися из языка, перенасыщенного смыслами: текст образуется, собственно, этими «кристаллами языка», которые оказались вытянуты из раствора ниточкой (веточкой) мысли Автора. Посредством же чтения текст возвращается в культурное пространство: рукописи не горят, но они растворяются. Не буквально, конечно, – они не исчезают бесследно в порождающе-поглощающем лоне, не об этом речь, но они заново и более мощно насыщают язык.
Как всякое сравнение, хромает и это. Оно провоцирует на статичное, вещественное представление о тексте и о языке. Оно закрывает от нас то, как текст сбывается в бытийствовании человека, а именно это для нас единственно важно. Впрочем, максимум, что можно требовать от сравнения, – чтоб оно хромало не на обе ноги.
Не следует, видимо, забегать вперед, не стоит и пренебрегать зернами очевидностей в обыденном сознании. Начнем с того, что уже сама процедура письма, как таковая, делает невозможным отождествление себя с текстом. В случае устной речи мои слова – это, в каком-то смысле, я сам: я нахожусь в этом случае внутри собственной речи – со всеми моими эмоциями и интонациями, с моим голосом и жестами. Кроме того, устная речь (не по бумажке, как озвучение написанного, а действительно устная) демонстрирует рождение мысли, будучи включена в целостность тела, существуя неотрывно от него. Она содержит в себе и оговорки, и исправления, и паузы задумчивости; благодаря этой вынесенности во вне моего внутреннего проживания такая речь роднее мне, чем письменное слово, она есть я, говорящий. Правда, «мысль изреченная есть ложь», но тут, по крайней мере, лгу я, – глядя в глаза этим вот людям. Написанное же мною, при всех своих достоинствах в виде гладкости и продуманности, оставляет за скобками все, о чем говорилось выше, – это уже не я, но лишь «мое», мною сделанное с большим или меньшим усердием и любовью. Здесь с самого начала присутствует дистанция «мастер – изделие».
Еще в одной подробности право обыденное представление о литературном творчестве (в широком смысле): все, что ни пишется, пишется для кого-то. Всегда есть адресат, текст кому-то предназначен, он представляет собой в определенном смысле слова послание, письмо от корреспондента адресату. Только вот – что это за адресат? Кому текст предназначен, более или менее понятно: читателю в той или иной форме. Но значит ли это, что он читателю адресован? М.М. Бахтин полагает, видимо, как само собою разумеющееся, что адресат и получатель идентичны. Его схема «я – другой» выражает именно коммуникативную связь автора и читателя, как конкретных живых людей.
Когда писатель, поэт (равно как и художник, скульптор, композитор и т.д.), находясь перед чистым листом бумаги (глиной, мольбертом, роялем и т.д.), – творит: вдохновенно и мучительно, – в этот момент к кому обращается он? К чему он обращен (повернут) в этот момент своим существом? – Никак не к зрителю, налично данному или предполагаемому в некоем историческом времени. Та инстанция, которую он имеет перед собой, и к которой устремлено совершаемое им творение, как движение его экзистенции, не только не тождественна ни одному конкретному человеку, но и вообще – в пределе своем – вряд ли имеет что-либо общее с чем-либо законченным, известным и по-человечески понятным. То Другое, что является действительным адресатом, не находится в человеческих измерениях. Произведение может быть предназначено для широкой (или узкой) публики, а может быть и не предназначено ни для кого, но адресуется оно в момент творения всегда к этому Другому (разумеется, если мы имеем дело с художественным текстом, хотя бы и в очень расширительном смысле).
Бывает и так, что произведение адресовалось первоначально конкретному лицу или лицам или самому себе (письма, дневники и т.д.), но и в этом случае такое произведение заинтересует нас лишь в той мере, в какой оно делает возможной в качестве своего адресата ту самую таинственную фигуру Другого. Собственно, сам факт широкой публикации личной переписки, дневников кого бы то ни было, любовных стихотворений, имеющих вполне конкретное посвящение, литературных вещичек, появившихся в особой атмосфере тесного круга друзей, имеющих это дружеское общение в качестве материала и до конца понятных только в этом тесном кругу, показывает, что все это имеет значение не просто исторических документов, казусов, интересных для специалиста-историка, но затрагивает и эту «широкую публику», задевает что-то очень существенное в каждом человеке. Эта «переадресация» может происходить как по воле автора, так и помимо, и даже вопреки ей, но если она случается, то это означает, что, обращаясь к некоему конкретному человеку, автор адресовался не только, а может быть, и не столько к нему, что он уже в момент написания каким-то образом имел перед собой кого-то совсем Другого. Впрочем, за такой публикацией может стоять и просто угождение любопытству сплетника.
Фигура Другого является порой единственным предметом (Gegen-stand) автора, и в этом случае получается художественный текст в собственном смысле слова, порой эта фигура располагается где-то на периферии взгляда автора, подвигая его, тем не менее, на некоторую «красивость» речи и «лирико-философские отступления» в личных письмах и дневниках. Можно взять на себя смелость и сказать, что вообще всегда, даже в том случае, когда пишущий вовсе не имел в виду никого другого, кроме своего непосредственного адресата, обращенность к Другому все-таки случается реально. Говоря, мы всегда говорим не только кому-то, но и, выражаясь театральным термином, – «в сторону», а точнее, видимо, – «наверх».
Участвуя в создании текста, фигура Другого продолжает организовывать его существование в качестве более или менее определенного топоса, на который ориентировано, к которому обращено высказываемое в тексте. Какие это имеет последствия? Тот Другой, который является другим для автора, в таком же положении находится и по отношению ко мне. Таким образом, если сохранять метафору текста как послания, письма, имея в виду его адресованность, текст представляет собою письмо ЧУЖОЕ. Он и читается всегда как чужое письмо: с тем же замиранием сердца, с тем же кантовским «незаинтересованным наслаждением», – читается как совершенно чужое письмо, меня лично никак не касающееся, но задевающее что-то во мне и в моем мире.
Сообщение, обращенное непосредственно и исключительно лично ко мне, я никогда не способен воспринять как текст, только взглянув хотя бы на миг со стороны на это сообщение – как на такое, которое как бы ко мне и не относится, – можно им полюбоваться или улыбнуться ему. Герой или персонаж анекдота не способен смеяться изнутри анекдотической ситуации, смеемся мы – над чужой историей. Так же как Ромео и Джульетта не плачут, они живут, а плачем мы. Смеяться же или плакать над своей жизнью можно только отнесясь к ней как к «чужой истории» – анекдоту или трагедии. Как это ни парадоксально, для того чтобы в качестве художественного слова потрясти меня до основания, речь, звучащая в тексте должна не обращаться лично ко мне. Но в действительности все очень просто, надо только осознать, что под словами «лично ко мне» понимается обращение к моей «личности» (Personlichkeit), как социальной личине. Моя же собственная душа для меня самого является, в конечном счете, чем-то таинственным и загадочным, поэтому обращение к ней со стороны текста также представляется мне чужим письмом, и сама возможность такого обращения неизбежно имеет несколько мистический характер.
Следует также проблематизировать источник высказываемого текстом. Точно так же, как раздвоен текст в своей телеологии на фигуру Другого, к которой обращено словесное творчество, и читателя, захваченного чтением этих «чужих писем», имеется раздвоение присутствует и в истоке этой речи текста. Автор, как реальная личность, всегда дублирует себя в тексте фигурой Рассказчика.
Переходя к разговору об авторе, мы затрагиваем очень непростую тему. Прежде всего, невозможно игнорировать «смерть Автора», которую возвестил Р. Барт, и которая успела уже стать достаточно общим местом. По словам Барта, Автор больше не предшествует тексту, Он не вынашивает его и не творит, он его лишь записывает, являясь только лишь скриптором, а текст, в свою очередь, не выражает уже авторских мыслей и душевных движений, да и вообще не говорит ни о чем, кроме самого себя, являясь автономным образованием не только после написания, но и в процессе его. Да, когда-то Автор творил текст, вещал и рассказывал его нам, поверяя свои мысли, и текст принадлежал ему; но Автор (в таком его понимании – как Творца) умер, уменьшившись, изничтожившись до механики записывания, оставив нас наедине с текстом. И слава Богу, – считает Барт. Благодаря этому «ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников»11.

