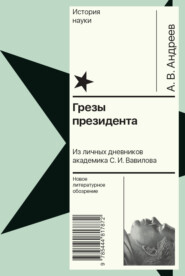
Полная версия:
Грезы президента. Из личных дневников академика С. И. Вавилова
Кого мне больше себя сейчас жалко, так это России, все завесы спали с глаз моих, и ничего, кроме какого-то гноящегося студня, я сейчас не вижу. Ни одного бодрого, прямого энергичного лица, все какое-то кривое, мягкое, склизлое, грязное. Счастья нигде нет. Забываются музыкой, водкой, развратом. В сущности, если угодно, не страна, а целая философия, философия безнадежности, отчаянья и полнейшего скептицизма. Абсолютно ни одной талантливой черты. Что-то уж безусловно иррациональное, которое «аршином общим не измерить». Ни в какое возрождение России я не верю, сгниет, растащат немцы, если, конечно, не появится Петра Великого в 5-й степени.
В декабре 1910 г. Вавилов дважды сравнивает социал-демократов с Фаустом, по всей видимости имея в виду продажу души дьяволу: «…для меня Фауст – социал-демократ или кадет или еще кто, только грустная картина» (12 декабря 1910), «…к настоящему Фаусту подходят ну хотя бы теперешние „сознательные“ рабочие. Вот Фауст, вот верные фотографии истинного Фауста, разошедшиеся в миллиардах экземпляров, и ставшие пошлостью пошлостей» (26 декабря 1910).
21 ноября 1912 г. Вавилов описывает свой разговор с П. П. Лазаревым, касавшийся, в частности, известного события 1911 г. – ухода группы прогрессивных профессоров из университета в знак протеста против царской политики. Оказывается, они оба осуждали эту политическую демонстрацию: «Я воспрянул и немного ожил, услышал от него сегодня, что „глупее и бесцельнее студенческих забастовок придумать что-либо трудно, что уход профессоров из Университета тоже глупость, что Лебедев уходить не хотел, что он ушел только вслед за Лебедевым“, наконец-то искренние, хорошие слова».
Во фронтовых дневниках Первой мировой Вавилов часто делает понятные в военной обстановке патриотические записи, вообще много рассуждает о России (всего около сотни раз), иногда с подлинным душевным надрывом («Россия, бедная, милая Россия» – 9 сентября 1915 г., «Россия, Россия моя, а с нею мать, я и все – на краю гибели. Боже, дай победу, нужна она всему» – 28 декабря 1916 г.). Порой эти записи даже граничат с шовинизмом: например, несколько раз Вавилов с отвращением пишет о «торжествующей немецкой свинье». Вот яркий пример злободневно-политического рассуждения Вавилова тех лет: «В газетах пестрят какие-то иксы „темной силы“. Получается картина феерическая и нелепая. Совиное гнездо из Александры Федоровны, Фредерикса, Распутина, Питирима и Штюрмера во главе угла – главная пружина „рока“ России, да это мыслимо только в распаленном русском воображении. Это из Достоевского и страшных сказок. Сзади совы и колдуны, впереди ощетинившаяся свинья, а здесь наивная простецкая и милая армия, которая не печется о многом и смотрит на все просто. Я уже это говорил – в армии праведники и младенцы. Дай, Господи, войны до конца дней в таком случае. Умереть суждено всякому, но лучше умереть честно и просто. Россия, Россия моя. Ее сейчас так жалко, так она загнила и так близка к смерти. // Ужас в том – что все раскрыто слишком поздно и вместо благоделаной спасительницы лихорадка войны для России стала похожа на предсмертную агонию. Нас спасет только чудо, Николай Чудотворец с Богородицей. // У меня недавно была своя личная тоска и безнадежность. Теперь – Россия» (26 ноября 1916). (Впрочем, как обычно, в других записях тех же лет Вавилова можно найти и мысли, противоречащие образу такого уж ультрапатриота: «…дни за днями – жизнь для других. Для кого? Ни для кого, и для России. А жизнь одна – для себя, для Бога, для всего и отнюдь не для фантастической „России“» – 6 апреля 1916 г.; и немец Гете по-прежнему кумир Вавилова.)
Не менее интересны в дневниках военного периода записи Вавилова о социализме.
5 июня 1915С тыла лезут ужасающие вести о беспорядках и бунтах, армия повыветрилась, стала почти сплошь ополченской, нет овса, винтовок. Боже, спаси, не то мы погибнем. О, с каким бешеным злорадством застрелил бы я сейчас бунтовщика-пролетария.
7 июня 1915…война для России – тяжелая операция, в результате которой может быть воскресение организма, революция была жестокая инфекционная болезнь – сифилис России. Война в случае ее удачи сделает Россию совсем молодой и аристократичной, война была необходима России. Война приведет Россию к «просвещенному абсолютизму», α и ω политической мудрости. Но от войны Россия может и умереть.
18 сентября 1915В России, говорят, опять появились liberté, egalité[224] и прочее, бастуют, пишут прокламации, требуют нового правительства, и это мещанская, филистерская междоусобная война готова задавить и погасить настоящую, романтическую, иррациональную войну, не людей, а народов. Итак, спасения нет нигде, здесь военная vita rusticana[225], там дома революция…
К сожалению, об этапах и причинах произошедшей в последующие 15 лет обратной эволюции Вавилова – от желания застрелить бунтовщика-пролетария до восхваления преимуществ социализма профессором-ударником – никаких документальных свидетельств нет. Можно предположить, что в этой трансформации сыграло роль окружение Вавилова. Вокруг было много людей, искренне поддерживавших советскую власть, в том числе близких (брат Николай). Абсолютно социально пассивных, «кабинетных», «не от мира сего» ученых в ту пору было немного – Вавилова окружали научные сотрудники и куда более активные, чем он сам, вполне себе «комиссарского» типа.
В любом случае в дневниках трехмесячной зарубежной поездки 1935 года внутренняя, непоказная советскость академика Вавилова уже несомненна. В разговоре с неким итальянским коллегой, отметившим сходство фашистского и советского режимов, Вавилову «пришлось указать, что differenza[226] в том классе, на котором стоит режим» (10 июня 1935). 15 июня впечатление от римской бедноты, «юродивых, уродов» неожиданно завершается выводом: «Италия, как и весь капиталистический мир, живет на вулкане». 21 июня Вавилов пишет о Милане: «Большие буржуи куда-то попрятались, а мелочь ходит напуганная и невеселая. Настоящая, перспективная жизнь советских городов выступает на таком фоне особенно резко. Здесь явная агония капитализма, какими бы муссолиниевскими допингами его ни поддерживали». Во Франции тоже капитализм обречен: «Замечательны парижские настроения. Интеллигенция готовится к коммунизму» (9 июля 1935). «Несомненно, что Париж – перед революцией. Это чувствуется, главным образом, в тревоге буржуазии. Народа здесь в центре не видно или не слышно, или он попросту начинает танцевать как будто бы ни в чем не бывало. Революция предопределена безысходностью, находящей вопиющее выражение в идиотском „кризисе“, и советским примером. Дело не в наших индустриальных успехах и не в наших громадных недостатках, а в том, что в самом деле привилегированных у нас не осталось, что у нас деньги просто несерьезный вопрос, что у нас безбрежное море впереди веселой работы» (13 июля 1935).
Нельзя отвергать версию, что Вавилов опасался, не прочтут ли в ГПУ эту тетрадку с записями о заграничной поездке (этот дневник и вправду совершенно не похож ни на «ранние», ни на «поздние» – сух и в целом странно безличен), но и более поздние записи из явно личного дневника 1940 г. говорят о принятии Вавиловым коммунистической идеологии. 17 марта 1940 г. Вавилов записал в дневнике: «Пускай люди ошибаются, но что-то они делают. На тысячелетия остаются Парфеноны, железные дороги и радио меняют жизнь, ленинская[227] воля и напор изменила совсем жизнь многих десятков миллионов». Это не из газетной статьи, это из дневника – между понравившейся цитатой из А. Франса и очередными признаниями в любви к прекрасному Питеру (так Вавилов часто называл Ленинград). 19 марта 1940 г. Вавилов пишет (брат Николай будет арестован еще только через полгода, в августе): «О если бы не гримасы, Лысенки и прочая дрянь, можно бы мир действительно повернуть. Революция-то на самом деле сделана, и в железных она руках, и стоит она прочно-препрочно. Но вот культурный гений нужен. Гете, Леонардо, Ньютоны. Нужней всего вдохнуть благородную душу в это всемогущее тело». 12 апреля 1940 г.: «Смотрю газеты, слежу за развертывающейся мировой драмой [войны]. Ясно, что конец буржуазного мира. В этом огне сгорит и Гитлер, и Чемберлен и прочие. Победит коммунизм». 14 июля 1940 г., после падения Франции: «Quatorze Juillet…[228] Такого не было 150 лет. „Nous Petain, marechal de France“![229] Во что все выльется? Немецкий разгром 1918 г., казалось, вел мир к социализму. Через 22 года – фашистская Европа. И каковы наши русские судьбы? Удастся ли устоять? Все неясно. Несомненно одно: неустойчивость фашистских систем и их временность. Коммунизм должен победить, но как и в каких условиях?»
Вавилов совершенно определенно был одурманен успехами дружной семьи народов СССР в индустриализации и преобразовании общества. Он и в самом деле видел, что «призрак [коммунизма] ходит по Европе» (9 июля 1935).
Записи 1917–1938 гг
Двадцатые – тридцатые годы – важнейший период жизни С. И. Вавилова: он становится профессором, академиком, крупным руководителем. К сожалению, именно эти два важнейших десятилетия в жизни Вавилова практически не отражены в сохранившихся дневниках – в сумме за 20 лет описано меньше полугода жизни.
В 1936 и 1937 гг. сделаны всего две и три записи соответственно, во время пребывания в санатории – это не настоящие «дневниковые» записи, а скорее наброски к неким серьезным, развитым в поздних дневниках, философским темам.
Чуть раньше, в мае – июле 1935 г., во время поездки по европейским институтам Вавилов вновь, как делал это в молодости, вел настоящий подробный дневник путешествия, однако тон этого дневника сугубо «научно-бытовой»: подробные описания лабораторного оборудования, встреч с физиками, научных разговоров, лишь изредка впечатления от некоторых городов, музеев, картин. Среди более чем 70 пространных записей встречается буквально несколько фраз, которые напоминают прежний дневник – говорят хоть что-то о внутреннем мире, переживаниях Вавилова:
31 мая 1935…рано улегся спать, а кругом Италия после военной пелены прекрасная, но что-то могильно грустная.
20 июня 1935Под окном, как 25 лет тому назад, [песня] «La donna é mobile». Если бы скинуть эти 25 лет, а может быть, лучше, что они уже прожиты.
20 июня 1935[В Риме] легче умирать, чем где-либо, непрерывная вековая линия так ясна.
23 июня 1935Леонардо – воплощенная человеческая трагедия, все может и не видит смысла в доведении до конца. Наиболее совершенное живое, кончающее именно поэтому самоубийством.
21 июля 1935Брюгге совсем сказка, я не ожидал, что он так уютен, что в нем так много подлинной старины, зелени, каналов. Здесь можно красиво умереть.
Намного интереснее неудачная попытка вновь начать вести дневник, которую Вавилов предпринял весной 1920 г. Всего шесть записей с апреля по июнь. Но сделаны они влюбленным Вавиловым.
14/1 апреля 1920Опять я принялся за дневник. На это есть причины. Хотя можно ли и стоит ли об этом писать? И для кого? Опять письма к самому себе. Дело в том, что я, кажется, собираюсь выскочить из Spiegel-Existenz’а[230]. Для меня совершенно неиспытанные ощущения, четвертое измерение – хотя для других и всех заштампованные и старые, как люди, слова. Вот и написать их не хочется, или храбрости не хватает. И не полетит [ли] к черту все остальное и не начать ли бороться, пока еще [есть] время?
Сестра больна – не знаю, еще в живых ли? И физика моя.
Весна. Закружилась моя несчастная голова, и нет уже прежней ледяной вершины. Вот почему и писать начал. Во мне – революция.
17/4 апреля 1920Из стадии воображения все это пока еще не выходит.
Но зато и воображение-то стало совсем новым, мне незнакомым, молоденьким и наивным. Пожалуй, жить проще и веселее стало. Но vivremo vedremo[231], от этого веселья до сугубой меланхолии очень недалеко, и во всяком случае все не от меня зависит.
Старый мой демон – объективизм в самые хорошие, плохие, трогательные и отвратительные минуты остался и лукаво с ядовитой улыбкой на меня посматривает, ну да пускай его смотрит. Живет-то не он, а «я», совсем не объективный.
Прежний вопрос остался, не начать ли бороться. Нет, пожалуй, лучше быть побежденным. И опять лукавая fatality[232] выглянула – сегодня на коллоквиуме в речи П. П. [Лазарева] о Helmholtz’е. Но главное – пока все только воображение и, может быть, пустые мечты.
24/11 апреля 1920Все это очень тонко и, в конце концов, malgré moi[233]. Не знаешь, верный шаг делаешь или споткнешься. Бессознательное лукавство и дипломатия. И по-прежнему нет уверенности, ее даже меньше прежнего. Но из колеи я выбит. Может быть, это к добру.
Сегодня весьма циничная (с моей стороны) беседа с Предводителевым о моем Standpunkt’е[234], или моей лестнице, по которой очень умело поднимаюсь и опускаюсь, смотря по обстоятельствам. Да, я без точки опоры, но вот это, это новое тянет безудержно помимо всех ступенек и лесенок.
Когда-то ждал я всяких Wendepunkt’ов[235] смертей и воскресений… теперь жизнь всюду одинакова, но новое тянет и, главное, malgré moi. В этом, может быть, и спасение. Т. е. какое уж тут спасение?
26/13 апреля 1920Печально. Я да мать, и тишина в доме. Она не может без меня, я без нее. А в голове у меня хаос, и тянет меня совсем к новому. Да, вот теперь-то развалилось наше старое пресненское житие. Ходит старушка да плачет, что у нее зеркало [разбилось], да третьегодняшняя просфора лопнула, не к добру, примета нехорошая. На это похоже. – А рядом в детском саду голосят «Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки».
У гробового входамладая будет жизнь игратьи равнодушная природакрасою вечною сиять[236].Нехорошая только эта молодая жизнь, бездушная, не люди, а камни, кирпичи для будущего коллектива.
Что же осталось? Физика (но это игрушка), да это новое еще, только начинающееся (а может быть, и оканчивающееся), да, пожалуй, еще «охота к перемене мест» без смысла, но и без ос[та]новки. Ну а еще мыло с веревкой? Бог?
9 мая н[ового] с[тиля] 1920, воскресеньеНачалось с Нескучного сада, потерянного Einstein’а, моей чудной пробной лекции, а кончилось нелепой акустической какофонией за Пресненской заставой. Вот уже 6 часов рвутся снаряды где-то на Хорошевских складах[237]. Почему? Бог весть. Старое впечатление ураганного огня, но бессмысленного, самопроизвольного. На Пресне это третье событие на моей памяти. Сначала Ходынка, потом декабрь 1905 г., а вот теперь эта какофония. События пошли резче, и я чувствую себя способным [соверш]ить Salti mortali[238].
8 июня н[ового] с[тиля] 1920Spiegel ist zerbrochen? Oder noch nicht? Was weiss ich heute Morgens ist der fatale Schritt, oder wieder Halbschritt gemacht. Schwindel im Kopfe, noch niemals empfundene Stimmung. Neugeboren oder tot![239]
Последний нынешний денечекСправляю я с самим собою.Aber trotzdem möchte ich mit einer Hand an Trümmer meines Spiegels festhalten[240].
А будь что будет, плыви, мой челн, по воле волн. Прыгать в окошко не ст[ану] во всяком случае.
«Роковой шаг», который сделан утром 8 июня, – предложение руки будущей жене Ольге, вот как она сама пишет об этом: «…мы все чаще встречались с С. Ив. Помню, когда уже опушились зеленые московские сады, с бульваров запахло согретой землей, мы решили пойти на Воробьевы горы. Долго бродили по рощам под Москвой. 8 июня все выяснилось между нами и мы стали женихами» ([Вавилова, 2004], с. 44).
Из воспоминаний жены Вавилова
Ольга Михайловна Вавилова оставила воспоминания. Эти воспоминания дважды публиковались: частично они процитированы в биографии Вавилова в серии «Жизнь замечательных людей»[241], частично опубликованы в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» при первой сокращенной публикации дневников. Вот некоторые фрагменты из них.
«С каждым разом встречи наши делались оживленнее. В сущности, оба мы были одиноки. Оба мы только что вернулись с фронта и были переполнены впечатлениями войны. Как бывает это, все тяжелое и темное в воспоминаниях отходило как-то вдаль, и делились мы скорее забавными и даже веселыми впечатлениями. Помню, как весело вспоминал С. Ив. свое пребывание в Кельцах, куда он попал со своей частью после тяжелых переходов и боев. С. Ив. с большой симпатией говорил о Польше и поляках. Вспоминал он удивительный эпизод с часами. Воинская часть их двигалась по Волыни, по песчаным местам. С. Ив. ехал верхом, на руке у него были золотые часы на золотой цепочке. Усталый, он почти дремал, покачиваясь в седле, и вдруг часы соскользнули с его руки. Он спешился, пытался найти, но времени не было. Так и двинулся дальше без часов. Пропажа очень огорчила его. Прошло несколько месяцев. Их часть двигалась опять той же дорогой. Вдруг подкова лошади звякнула обо что-то, и что-то блеснуло в песке. И что же? Его часы. Те самые, которые упали с его руки когда-то! // Случай почти невероятный, но тем не менее истинный» ([Вавилова, 2004], с. 43).
«С. Ив. бывал у меня каждый день и приносил мне цветы. Засохшие лепестки роз сохранялись в томике Баратынского» ([Вавилова, 2004], с. 45).
«С. Ив. очень любил архитектуру и говорил, что часто видит музыкальные сны» ([Вавилова, 2004], с. 47).
«Сергей Иванович был среднего роста, в плечах неширок, но прям, что придавало фигуре его подтянутый и бодрый вид. Держался прямо, ходил быстро и легко. ‹…› Был он смугл и сильно загорал летом. Голос очень низкий, очень мягкого звучания. Лицо его, строгое, глубоко серьезное и сосредоточенное, легко и часто раскрывалось в улыбке. Смеяться он мог до слез. Умел и любил шутить и острить. Когда в 1925–1926 годах мы были в Крыму в Мисхоре, наша хозяйка татарка как-то отозвала меня таинственно и, предостерегающе погрозив пальцем, сказала: „Оля! Не верь ему. Он наш!“ То есть что он не русский, а татарин. ‹…› В молодости, когда бывали мы летом в Крыму и мне ужасными усилиями удавалось уговорить его носить белые легкие рубашки и белые брюки, его высокая легкая фигура, его огромные черные глаза на круглой красиво очерченной голове напоминали мне персонажей „небесного воинства“ под святыми стягами и хоругвями на старинных русских иконах. Конечно, к этому воинству духа он и принадлежал, и именно к русскому» ([Келер, 1975], с. 180–181).
«У меня вызывало улыбку его отношение к собственному физическому существу – снисходительно-неприязненное, и я говорила ему, что он вроде Франциска Ассизского: тело свое ощущает как „брата моего осла“. И мне всегда казалось, что он почти бестелесный, так мало в его жизни значила та тягость, которой было для него его физическое существо. Он как бы только терпел его, не испытывая от него никакой радости. После совершенно беспримерного труда он мгновенно погружался в детский спокойный сон и сны видел архитектурные и музыкальные» ([Келер, 1975], с. 181–182).
«…вспоминаю, как самозабвенно, весело и озабоченно устремлялся Сергей Иванович во тьму кромешную оврагов за этими светляками. Густые заросли орешника, пни, гнилушки и коряги. Ветви хватали нас за волосы и били по лицу, и часто мы ползли на четвереньках за этими волшебными зелеными огоньками, притаившимися то ли на земле, то ли на папоротниках, то ли на пне. Во тьме не разберешь. Надо было видеть, с каким счастливым и хитрым видом рассматривал Сергей Иванович дома свою добычу. Потом мы сажали их в траву около дома, и каждый вечер Сергей Иванович осведомлялся, целы ли они, и даже пересчитывал их заботливо. Часть добычи увозилась в Москву» ([Келер, 1975], с. 186).
«Глаз и солнце»
В дневниковой записи от 14 июля 1939 г. Вавилов пишет: «Поразительны сны. В одно мгновение достигается такая глубокая, пронизывающая характеристика предметов, людей, поступков, явлений – которая выше того, что делали Пушкины, Леонардо и Росси в бодрственном состоянии. Очерк человека, его внешности, его психология, архитектура – лучше, чем что-либо я видел на самом деле (например, грандиозное воплощение новогородского стиля). Во сне вскрываются те подсознательные залежи обобщенных наблюдений и выводов, которые так трудно в большинстве случаев извлечь наружу и воплотить словом, мыслью, рисунком в бодрственном состоянии. // Просыпаясь, первый момент, когда иногда еще довольно живо помнишь сон, остаешься потрясенным его талантливостью, искусством схватывать быка за рога. // Помню, когда-то мне приснилось хорошее заглавие для книжки: „Глаз и Солнце“, определившее весь характер книжки».
Книга С. И. Вавилова «Глаз и солнце» (1927) при жизни автора переиздавалась четыре раза (1932, 1938, 1941, 1950), затем была издана еще по меньшей мере восемь раз (до 2016 г.), в том числе на английском. Она считается классикой отечественной научно-популярной литературы.
Вот так книга начинается: «Сопоставление глаза и Солнца так же старо, как и сам человеческий род. Источник такого сопоставления – не наука. И в наше время рядом с наукой, одновременно с картиной явлений, раскрытой и объясненной новым естествознанием, продолжает бытовать мир представлений ребенка и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов. В этот мир стоит иногда заглянуть как в один из возможных истоков научных гипотез. Он удивителен и сказочен; в этом мире между явлениями природы смело перекидываются мосты-связи, о которых иной раз наука еще не подозревает. В отдельных случаях эти связи угадываются верно, иногда они в корне ошибочны и просто нелепы, но всегда они заслуживают внимания, так как эти ошибки нередко помогают понять истину. Поэтому и к вопросу о связи глаза и Солнца поучительно подойти сначала с точки зрения детских, первобытных и поэтических представлений» (с. 161)[242].
Вообще в книге проводится довольно стандартный и вполне качественный «ликбез» по основам оптики и физиологии зрения с умеренным акцентом на близкие автору области (флуктуации светового поля, люминесценция). Никакой особой аналогии между глазом и Солнцем, естественно, не обнаруживается (кроме довольно тривиальной казуальной связи – что глаз эволюционно подстроен именно под солнечный свет). Но зато такой заход – через яркую метафору, через «сказочный» мир «детских, первобытных и поэтических представлений» – позволяет сразу увлечь читателя. А также написать о многом, что было интересно самому Вавилову-«гуманитарию».
Вавилов приводит строки из стихотворений Пушкина и Фета, в которых глаза сопоставляются со звездами, а начинает книгу эпиграфом – строками своего любимца Гете: «Будь несолнечен наш глаз – // Кто бы солнцем любовался?»[243] Тютчев и Есенин свидетельствуют у Вавилова о материальности света, который у них льется и брызжет. О том же – эпизод с А. П. Чеховым, который, по воспоминаниям М. Горького, ловил однажды шляпой солнечный луч у себя в саду.
«Играя в прятки, ребенок очень часто решает спрятаться самым неожиданным образом: он зажмуривает глаза или закрывает их руками, будучи уверен, что теперь его никто не увидит» (с. 161).
«Сознание, разумеется, неизбежно приходит в свое время и разбивает сложные узоры детской поэтической „оптики“. Ребенок постепенно все определеннее начинает отличать свои ощущения от внешнего мира, сон резко отделяется от действительности, обманы чувств – от реальности» (с. 164–165).
Демонстрируя эволюцию представлений о свете, С. И. Вавилов умело проходит по истории естествознания от Платона, Эвклида, Птолемея, Дамиана из Ларисы (IV в. н. э.) – считавших лучи света исходящими из глаз – через всю историю научной оптики (корпускулярные воззрения Ньютона, волновая теория Френеля и т. п.) вплоть до квантовой механики с ее вновь вставшей проблемой корпускулярно-волнового дуализма. В этом добротном изложении истории оптики примечательно внимание, уделенное Вавиловым оптическим иллюзиям. Без особой «сюжетной необходимости» в разных главах приведено восемь примеров обманов зрения. Хорошо известных, вроде прямых линий, кажущихся изогнутыми из-за особо заштрихованного фона. Или вот таких, «авторских» (с. 226): «Автору этой книги много раз приходилось переживать весьма грубые пространственные ошибки. Один раз маленькая красная сигнальная жестяная пластинка, висевшая вблизи на трамвайных проводах, показалась красным флагом огромных размеров по той причине, что красная пластинка была мысленно ошибочно отнесена к шпилю на удаленном доме в конце улицы. Другой раз в течение короткого мгновения кошка была видна величиной с корову; показалось, будто эта кошка идет по удаленному забору; на самом деле она шествовала по крыше, около окна, через которое ее было видно».



