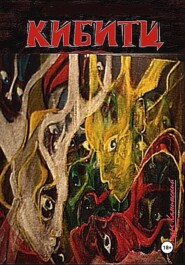скачать книгу бесплатно
– Что невиновного человека отправят на виселицу. Кем бы он ни был.
– Но бывают же ошибки, Алиса, заблуждения, особые обстоятельства, наконец! Возможно, Януш стал жертвой ужасной клеветы, чьей-нибудь интриги. В этом мире все возможно.
– Но не в социалистической стране, – настаивала Алиса.
– Почему же нет?
– Потому, – ответила она уверенно, – что мы сражаемся с нашими врагами, а не с друзьями.
– Теоретически – это так, Алиса, но…
Наш разговор едва не перешел в тяжелый конфликт. Мы вдруг оба почувствовали это и попытались обуздать свои страсти. Алиса резко поднялась и отправилась на кухню готовить чай.
– Он действительно был тебе другом? – донеслось оттуда.
– И да, и нет, – ответил я, – он оказался в труднейшем положении и попытался выжить. И он выжил, вопреки всем законам вероятности. При фашистах четыре года кряду провел он в исправительной колонии. Затем он сбежал на Запад, где ему пришлось хлебнуть все прелести эмигрантской жизни. Вначале – в Австрии, затем – в Чехословакии и, наконец, в благословенной Швейцарии. И всюду он был чужаком, нелегалом. Десятки, сотни старых коммунистов были уничтожены. Но Януш продолжал оставаться на плаву. Он вышел целым и невредимым из таких переделок, что его стали подозревать. У него было множество врагов, и ни души рядом, на которую он мог бы положиться.
– Я спросила, был ли ты ему другом, – снова донеслось из кухни.
– Наши отношения, – уклончиво ответил я, были, скорее, деловыми. О взаимной симпатии не может быть и речи. Мы исповедовали одни и те же убеждения, и это все. Его виртуозное умение всегда держится на плаву не слишком меня занимало. Как знать, может и я был бы не против, чтобы однажды он пошел ко дну. Как герой, как положительный образ из советской литературы. Но Януш был антигероем, и вместо того, чтобы героически сгинуть, он остался в живых. Но уметь выживать и уметь просто жить – далеко не одно и то же. Второго Янушу было не дано. Как не дано ему было умения просто и понятно выражать свои мысли. Его высказывания отдавали примитивизмом, его лексикон был сплошным убожеством. На все – про все ему хватало двух крайних оценок: либо «дерьмо», либо – «сто процентов». Все, что было не по нему, это дерьмо. Остальное – сто процентов. Будь это кусок хорошо приготовленного мяса, страстная женщина или сталинская острота – все это стояло у него в одном ряду, и все – сто процентов. Но Америка, философия Сёрена Кьеркегора, абстрактная живопись, поэзия Рильке – это у него в другом ряду, и все это – дерьмо! Ладно по-немецки – это все же не родной ему язык, но и по-польски он говорил коряво, напоминая жителя свайных построек. Не суть важно, на каком языке выражал он свои скудные мысли, весь мир в его глазах был окрашен в два цвета: черный и белый. «Дерьмо» либо «сто процентов». Никаких промежуточных оттенков. Никаких полутонов. Он признавал лишь два состояния, две ипостаси всего сущего. Посредине – абсолютная пустота. Провал. Terra incognita.
– А знаешь, – продолжал распаляться я, – он был идеальным коммунистом. Революционером без сучка и задоринки! Ума не приложу, чего хотят от него его обвинители?
– Короче, – парировала Алиса, – ты в нем уверен – так?
– Этого я не говорил, – возразил я, – но я уверен, что никакой он не агент Америки. Человек может быть нечистым на руку, или, как говорил мой отец, личностью весьма мрачной, сомнительной, может иметь склонности к мошенничеству или к аферам, играть краплеными картами, но все это отнюдь не означает, что такой человек – непременно изменник родины. Согласись, что между ветрогоном, человеком просто без царя в голове, и перебежчиком кое-какая разница все-таки есть.
– Означает ли вся эта твоя тирада, – продолжала наседать Алиса, подавая чай и стараясь не смотреть на меня, – что за парня этого ты готов поручиться собственной головой?
– Его жена, – не поддавался я, – знает его изнутри и снаружи. Она уверена в его невиновности.
– Ты ей что-то пообещал? – спросила Алиса, глядя мне прямо в глаза.
– Нет, – неуверенно ответил я, раскуривая сигарету, – что-то обещать ей я не стал…
Это была неправда. Первая ложь, господин доктор, которую я позволил себе сказать Алисе. И с этой минуты отношения между нами сделались не такими, как прежде.
Все, что я здесь написал, не есть абсолютно точная передача нашего разговора. Не исключаю, что сегодняшнее видение того, что тогда произошло, в какой-то степени отразились в моем пересказе. Скажем, я не уверен, что сплошное черно-белое отражение всего сущего в глазах моего приятеля я уже в то время находил абсолютно негативным. Сомневаюсь также, что тогда я уже был в состоянии ставить под сомнение правоту сталинских кровавых акции против своих соперников. Тем не менее, в ту ночь с наших уст слетело много разных слов, которые едва ли соответствовали линии поведения верных членов партии. А моя явная ложь была лишним свидетельством того, что встреча с Хайди стала решительным толчком к крушению моей прежней веры.
14
Господин Кибитц,
скажу вам сразу и без лишних церемоний: этот двуликий Янус, которого вы так обстоятельно мне живописали, отнюдь не заслуживает столь пристального внимания, каковым вы его удостоили. Ваш отец считал его сомнительным типом, от которого исходит полумрак. А он, этот ваш Януш, и того меньше: он – форменное ничтожество. Круглый нуль. Не думаю, что этот господин Никто мог сыграть сколько-нибудь заметную роль в вашей жизни. Но я пытаюсь понять, когда возникли в вашем сознании соображения насчет виновности или невиновности этого скользкого типа – еще тогда или гораздо позже? Предположим, уже тогда вы были способны отличить матерого шпиона, который, согласно легенде своей, косит под шалопая, от самого обыкновенного шалопая, который ни под кого не косит, ибо таковым является по жизни. Тогда это на самом деле было бы несомненным свидетельством особенных умственных способностей, которых я в вас, простите, не заметил, если судить по рассказам, которыми вы меня потчуете. Если же предположить, что озарение это сошло на вас позже, то тогда это и вовсе можно считать симптомом, отрадным для нас с вами. А именно: это могло бы означать начало вашего созревания, что вы, наконец, расстались с вашей инфантильностью и потихоньку превращаетесь в логически мыслящего человека.
Что же касается вашей швейцарки, то я не вижу ничего странного в том, что подобное дорожное увлечение вызвало решительные перемены в вашей жизни. Вошла ли она в нее как женщина или всего лишь послужила толчком к размышлениям – мне судить пока трудно. В любом случае, она разбередила замшелую кору вашей наивности, насквозь прошибла ее, и вы тут же пообещали ей сделать все, что в ваших силах. А то, что вы той ночью солгали спутнице вашей жизни, сказав, будто никаких обещаний не давали, я нахожу даже положительным. Это лишь свидетельствует о взрослении вашего сознания, а невозможность или, тем более, нежелание сознаться говорит, в свою очередь, о начале пересмотра жизненных принципов, которых вы придерживались дотоле.
Ваша супруга увидела в этом предательство, идеологическое вероломство. Пусть так, но вопреки ее представлениям, вы, по меньшей мере, в четырех стенах вашего дома, вступились за этого двуликого, а вернее сказать – двуличного Януша, ставшего якобы невинной жертвой подлого наговора. Это возвышает вас в моих глазах. Подобная твердость позиции, признаться, даже удивила меня, и я приписываю это обстоятельство воспитанию, полученному вами в стенах нашей цюрихской гимназии. Ваше достойное поведение весьма импонирует мне, и я начинаю серьезно верить в возможность полного избавления от постигшего вас недуга.
Вместе с тем, я по-прежнему прошу вас не растекаться мыслью по древу. Излагая мне историю вашей жизни, постарайтесь сдерживать вашу склонность к многословию.
15
Уважаемый господин доктор,
не знаю, право, радоваться мне Вашему последнему письму или сердиться на него? Все, что Вы написали и главное – какими словами, звучит одинаково ободряюще и бестактно. Не думаю, что порядочностью своей я обязан исключительно воспитанию в стенах швейцарской гимназии. И без нее я стал бы не меньшим поборником справедливости. Так что, будем считать эту добродетель неотъемлемой частью моей личности. Если я чему-то и научился у вас, моих товарищей по гимназии, так это искусству хитрить и притворяться. Если бы я в те годы дерзнул, как говорится, ходить под собственным флагом, не видать мне аттестата, как своих ушей. Я был вынужден слиться с вашей средой, раствориться в ней без остатка, чтобы не быть отторженным от нее, как инородное тело. Изображать простачка, эдакого парнишку, своего в доску…
Однако, я хотел бы, как Вы того постоянно требуете, быть кратким и вернуться к истории с моим другом, который, как и я, вынужден был постигать искусство вести двойную жизнь.
Януш Закржевский был, как и я, евреем, и также, как я, вынужден был всячески скрывать этот факт. Любой ценой, потому как еврейство было его клеймом, родимым пятном, Ахиллесовой пятой. Эта необходимость превратила его жизнь в сплошной маскарад. Назвавшись доктором Закржевским, он как бы окончательно дистанцировался от того, кем был на самом деле. А был он евреем по имени Шлаумайер – швейцарцы таких слов и выговорить не в состоянии. Да им и дела нет до подобной экзотики. А имя «Закрежвский» – о чем оно говорит швейцарцам? Да ни о чем. Человек с таким именем для них – жалкий цыган, представитель бродячего племени.
В Польше это имя звучит совсем по-другому. У поляка это имя ассоциируется с охотничьими доспехами знати – с хлыстом и сверкающими блеском хрустящими сапогами для верховой езды.
Но в Цюрихе! Там это слово никто и не выговорит. Хуже того: обладатель такого имени может быть только евреем. Мало того – евреем восточным, а это значит – абсолютным голодранцем. К евреям богатым отношение совсем другое. Их почтительно, с придыханием величают израильтянами, и в этом отражается глубокое почтение за отлично сложенную собственную жизнь. Израильтяне имеют много денег и носят вполне произносимые имена, скажем, Блох или Гуггенхайм. Разумеется, в душе их ненавидят так же, но имена их впечатляют и порождают совсем другие ассоциации: процветающий бизнес, крупный счет в солидном банке, роскошную виллу у подножья живописной горы Зюдханг.
Словом, Януш просчитался. Как с именем, так и с докторским титулом. Кстати, о последнем: в Швейцарии доктор либо человек зажиточный, либо – если он недостаточно богато одет, это жалкий эмигрант, чудом вырвавшийся из какого-нибудь гетто, и его без промедления следует отправить восвояси. И вообще, что за дипломы носят в карманах эти чудаковатые непрошеные гости? Клочки бумаги из Софии или Бухареста. Ни денег, ни манер. Полудикари…
Разумеется, все это Вам хорошо известно, господин доктор, и Вы отлично понимаете, почему Януш получил, в конечном счете, именно то, чего он с таким усердием старался избежать. Он сам себя разоблачил, чем, собственно, и привлек к себе внимание соответствующих органов.
– Скажи мне, наконец, – раздраженно наседала Алиса, – пообещал ты вмешаться или нет? Вечно ты рассказываешь какие-то истории, которые лишь нагоняют скуку, и этим выводишь меня из себя. Ты подал ей знак надежды? Скажи прямо!
– Никаких знаков надежды я ей не подавал, черт побери, – не сдавался я, – понятия не имею, что вообще могу я предпринять. У меня – голова кругом! Януша отправили в тюрьму, к тому же не в каком-то там западно-капиталистическом логове, а в благословенной Польше, в стране социалистического лагеря, которой он посвятил всю свою жизнь. И на чем основаны выдвинутые против него обвинения? Если верить его жене, то всего лишь на псевдониме, под которым он жил, и на вымышленном титуле. «Ты шулер! – кричали они ему в лицо, – ты таился в чужой шкуре. Ты посмел присвоить себе незаслуженный титул…»
Два имени. Два убеждения. Значит, он двойной агент. Когда же Януш посмел возразить на это, что даже Ленин – не Ленин вовсе, а Ульянов, и настоящая фамилия Сталина – Джугашвили, следователь с гневом бросил ему в лицо, что какая-то паршивая еврейская свинья из Галиции не смеет ставить себя рядом с великим Лениным, а тем более – со Сталиным, гениальным вождем мирового пролетариата!
– И ты всему этому веришь? – тяжело вздохнула Алиса
– Конечно, – попытался смягчить я, – этот следователь – всего лишь исключение. И в партию может затесаться какая-нибудь свинья. Вот только…
– Что? – тут же подхватила Алиса.
– Видишь ли, я ведь тоже еврейская свинья из Галиции, – ответил я, – и теперь уже мое будущее отнюдь не кажется мне столь отрадным, как прежде.
– Если во всем этом есть хоть толика правды, Гидеон, то нам остается только повеситься. Но правдой это не может быть никак. Эта женщина клевещет. В последний раз спрашиваю тебя: ты ей что-нибудь обещал?
– Я лишь сказал, – признался, я, наконец, – что попытаюсь сделать все, что в моих силах. Но ты же знаешь, что я абсолютно бессилен! Я всего лишь ничтожный ассистент студии радиовещания, который помогает инсценировать классические пьески. Кто принимает меня всерьез? И что, собственно, могу я предпринять – что?
Наше жилье погрузилось в сумерки. Мы оба были на пределе сил. Случилось то, чего оба мы старались не допустить: наш разговор выплеснулся из нормального русла и превратился в словесную перебранку. Нам следовало немедленно прекратить его, либо само будущее наших отношений и даже нашего брака будет поставлено под вопрос.
– Если есть истина в том, что узнали мы из всей этой истории, – тихо сказала Алиса, то мы должны немедленно убираться отсюда вон.
– Нас отсюда не выпустят так просто, Алиса, – ответил я.
– И что же нам делать, – в ее глазах блеснули слезы, – что?
– Ждать. Терпеливо ждать и искать правду. – Я старался говорить, как можно, спокойнее. Вид плачущей Алисы потряс меня. Никогда прежде я ее такой не видел.
– Искать правду? – прошептала она в ответ, – представь, что мы ее нашли. И что же дальше?
– Надо же, – ответил я, неуверенно подбирая нужные слова, – еще совсем недавно никто и ничто не могло так потрясти нас…
Алиса молча подошла к окну и стала разглядывать пустую улицу:
– Нет, сказала она после паузы, – все это совершенно невозможно. Не верю! Не верю! Не верю!
Я подошел к ней и обнял ее за плечи. Я стал целовать ее мокрые глаза, но она вдруг вывернулась из моих объятий:
– Эта женщина клевещет! Это же очевидно! Она подло лжет!
– Допустим, – ответил я, – допустим ты права, и она действительно лгала мне. Но как ты поступила бы на моем месте? Помчалась бы в полицию? Стала бы бить себя в грудь, заступаясь за этого человека? Даже если он и вправду невиновен – что вышло бы из такого вояжа?
– Если на нем нет вины, ты просто обязан пойти туда, Гидеон!
– Они запросто могут там меня и оставить. Скорее всего, Алиса, оттуда я уже не выйду.
– Ты испугался? – неожиданно спросила Алиса, резко повернувшись ко мне.
Это был страшный вопрос, господин доктор. В ее голосе сквозило презрение, потому что сама она ни разу в жизни не испытывала чувства страха. Не было его и теперь. Это была истинная дщерь пролетариата, которая, если в чем-то была уверена, готова была пойти решительно на все.
Но в Януше она усомнилась. Она знала его лишь по моим рассказам, и сведения эти были односторонни. Возможно, повествуя о нем, я выбрал такие слова, которые представили его не в лучшем виде. Незначительными штрихами я сделал его чуточку хуже, чтобы самому на его фоне выглядеть привлекательней.
В смысле сугубо политическом, Януш был не более сомнителен, чем я сам. Напротив, в сравнении со мной он был, что называется, гранитной глыбой. Наверное все-таки я моим рассказом скомпрометировал его, чтобы этим самым оправдать нежелание за него заступаться. С плохо скрываемым предубеждением я как бы принизил его, щедро разбросав семена сомнений.
И я добился гораздо большего, чем ожидал сам. Алиса окончательно прониклась к нему подозрением, которое целиком распространилось и на его супругу:
– А почему, собственно, я должна слепо верить ее словам? – спросила она, заметно успокоившись. – В конце концов, это ее святой долг выгораживать своего мужа, с которым она живет. У нее три дочери от него. Если она его любит, она просто не в состоянии и не вправе быть к нему объективной. Отвернись она от него, и все сочтут ее предательницей. И значит, свидетелем, достойным доверия, она быть не может, – заключила Алиса, ставя в нашем споре последнюю точку.
Два десятилетия миновало с той ночи, но я помню все до мелочей. Не только отдельные слова, произнесенные нами, но и ту мучительную подавленность, в которую Алиса загнала меня. Она поставила меня перед выбором: быть мне человеком или примитивным моллюском:
– Если ты, в отличие от меня, уверен в его невиновности, – сказала она, – ты должен пойти к ним и заступиться за него. Если такой уверенности нет, ты должен выйти из игры!
Выглядело все очень просто, но на самом деле, это было уравнением со многими неизвестными.
Кем был Януш? Я знаю его по Швейцарии. Знаю, с кем он общался, чем занимался и чем он кормился. Но кем был он на самом деле? Достаточно ли хорошо я знаю этого человека, чтобы поручиться за него? И еще: кем, собственно, является сама Хайди, супруга его? О ней я и вовсе ничего не знаю. Когда они поженились, меня в Цюрихе уже не было. Она была привлекательной и даже больше того: она была очаровательна, пленительна и отличалась, к тому же, горячим темпераментом. Она являла собой тот тип швейцарской женщины, которая бесстрашно, рискуя головой, готова в любой драке отстаивать свои убеждения. Была ли она абсолютно искренней тогда – судить трудно. Одно могу утверждать: лгать она не умела. Допускаю, что она несколько упорядочила понятие истины в собственном сознании, чтобы облегчить себе ее восприятие – кто же, скажите, не делает этого? Но в общем и целом, она была, может быть, самым искренним существом из всех, каких я прежде встречал.
И наконец, третий вопрос, самый, пожалуй, сложный: кем был я сам? Сколь искренними были мои помыслы? Что вызывало во мне страх? Возможность самому угодить на виселицу? Или все гораздо сложнее? А может, я испытывал страх за непоколебимость моей веры?
Если бы следователь действительно обозвал Януша еврейской свиньей, с моими убеждениями было бы покончено. Но я гнал прочь от себя такие мысли. В социалистической Польше, через несколько лет после победы над Гитлером? Исключено! Какую-то вольность следователь, наверное, себе позволил, но такое – ни за что! Исключено. Ис-клю-че-но!
Однако еще больший страх не давал мне покоя: что станется со мной, если Януш, при очевидной невиновности своей, будет все-таки повешен? Смогу я дальше жить с таким камнем на сердце? Конечно же, нет. Моя совесть до смерти замучит меня. Жизнь сделается невыносимой. Значит, я должен что-то предпринять.
Но что?
Алиса посоветовала мне еще раз съездить в Закопану, поговорить с Хайди и выяснить правду. Такое решение пришлось мне по вкусу, потому что супруга Януша приглянулась мне. Скажу больше, я был восхищен ею и постоянно думал о ней. Кроме того, такая поездка как бы отодвигала принятие окончательного решения.
Не сомневаюсь, господин доктор, вы готовы утверждать, что я влюбился. Уверяю Вас, нет, потому что я любил Алису. Но она начинала тяготить меня. Из-за ее бескомпромиссности я оказался в сложнейшем положении. Она требовала во всем четкой позиции, ясных решений. Но я был совсем другим. Я хотел просто жить. Моя работа делала меня счастливым. Театр переносил меня из скучного мира упрямых фактов в комфорт иллюзий, в сказочную нирвану искусства. Большего я и желать не мог.
Мы с Алисой были совершенно разными индивидуумами в самой основе своей. Пропасть между нами разрасталась.
Я чувствовал, что приближается час принятия решения. В пользу Януша или против него. Быть мне с Алисой или… Жить по собственным представлениям или продолжать придерживаться ее житейских правил?
Но к этому часу пик я был менее всего расположен. Сколько помню себя, я стараюсь любой ценой избегать принятия решений.
Не здесь ли таятся корни моего недуга?..
16
Господин Кибитц,
ваша гипотеза не лишена оснований. Долгое время продолжающаяся нерешительность при определенных обстоятельствах может привести к полной потере дара речи, к отказу речевого аппарата вследствие психологического страха перед необходимостью принятия решения. Это вполне возможно, но не следует забывать, что со времени той конфликтной ситуации минуло двадцать лет, а ваше заболевание лишь недавно проявилось. Вы сами говорите, что полная потеря дара речи наступила у вас лишь в нынешнем году. Непосредственная причинная связь между этими двумя явлениями кажется мне сомнительной. Можно допустить, что заторможенность вашего речевого аппарата долгое время прогрессировала, прежде чем окончательно наступило ступорозное оцепенение. Но гипотеза эта не кажется мне бесспорной. Единственное, в чем можно быть уверенным: к вашему недугу в известной степени приложила руку и ваша супруга. Своей непримиримостью она превратила ваш быт в сплошной ад.
Вы угодили, можно сказать, в польскую ловушку, и о том, чтобы выбраться из нее, не могло быть и речи. Чего же добивалась от вас несгибаемая супруга ваша? Непримиримой, бескомпромиссной борьбы за правду? Как она это себе представляла? Что вы, очертя голову, с голыми руками броситесь на меч существующего режима?
Слава богу, на вашем горизонте внезапно появилась другая женщина. Оказалась ли она благоразумнее вашей Алисы, мы еще узнаем. Расскажите же о вашей второй поездке в Закопане. Это может продвинуть нас в наших исканиях.
17
Уважаемый господин доктор,
боюсь, я не сумею удовлетворить ваши ожидания. В повествовании моем я действительно много внимания уделил «другой женщине», однако совсем не потому, что Вы вообразили себе. Эта «другая» сыграла роль связующего звена цепи, некой промежуточной личности, которая, сама того не желая, вовлекла всего меня в иную солнечную систему.
Вы будете возражать, и скажете, будто меня вновь заносит в очередную крайность. Но это не так. Эта самая «другая женщина» втянула меня в магнитное поле некоего дружеского круга – своего рода, мужского квартета, который впоследствии целиком переменил мою жизнь. Четыре товарища разрушили все мои былые представления о жизни, с ног на голову поставили мои житейские принципы, превратив меня из невольного пассивного зрителя в играющего актера. Хайди сыграла в этом вышеупомянутую роль: ей обязан я знакомством с мужчинами, которые предопределили мое второе рождение. Поэтому и только поэтому говорю я об этой «другой» с таким придыханием.
Итак, по совету Алисы я вновь отправился в Татры. На сей раз – не столько для того, чтобы прояснить ситуацию с моим дядей, сколько для того, чтобы разузнать подробности, касающиеся двуликого Януса. Но если говорить честно, была у меня и другая цель: Хайди, которая поглотила всего меня без остатка. Она явилась для меня загадкой, которую я должен был непременно разгадать. Хайди была женщиной, как говорят, моего романа: эдакая святая Иоанна с пламенным взглядом, бесконечно преданная единственной идее.
Подобно Алисе, она верила в справедливость и, как мне казалось, готова была во имя этой веры взойти на костер. Таинственная улыбка не покидала уголков ее губ. Когда она смотрела на кого-нибудь, ему казалось, она готова сейчас же заключить его в объятия, но ничего подобного она никогда не делала. Сотни раз я сгорал от желания поцеловать ее, но мне не хватало на это мужества. Она была до такой степени натуральной, что рядом с ней я самому себе казался насквозь неестественным, наигранным, эдаким абсолютно синтетическим существом.
Мы сидели вдвоем в мансарде. После ареста Януша она снимала жилище казарменного типа, в котором некогда размещался сиротский дом. Кормилась случайными заработками домашней уборщицы, и меня поражало, с какой легкостью она говорила об этом. Из окна ее комнаты можно было любоваться вершинами гор и сползающим за горизонт диском заходящего солнца. Внутри едва хватало места для деревянной табуретки и узкой настенной полки с несколькими книгами.
Хайди сидела на кровати и разглядывала меня. Ее раскованность не только не расслабляла меня, а, напротив, держала в полном внутреннем напряжении.
Она расспрашивала меня о юности и Швейцарии. Ей хотелось знать, что привело меня в Польшу. Как давно я знаю ее мужа, и что я о нем думаю.
Я отвечал бессвязно. Хайди молча слушала меня, потом еще немного помолчала и вдруг лицо ее озарилось все той же таинственной улыбкой. Очень жаль, сказала она, что дороги наши пересеклись лишь теперь, к тому же, при обстоятельствах столь грустных. И добавила, что с момента ее знакомства с Янушем я еще ни разу не бывал в Цюрихе…
Опять этот Януш… Громким стуком в висках отдавался мой лихорадочный пульс. Ладони мои покрылись противной влагой, и я не знал, как увернуться мне от этой мучительно неприятной темы. Вся беседа крутилась вокруг этого парня, который все более испытывал мое терпение.
Я отчетливо чувствовал запах ее волос, но непреодолимая преграда, разделявшая нас незримо и надежно, невыразимой отчужденностью напрочь зависла между нами.
Внезапно меня озарила идея. Распутная мысль, которая могла бы столкнуть с мертвой точки наше рандеву, застывшее в полной неопределенности. Ни к тому, ни к сему, я вдруг задал ей вопрос, любит ли она своего мужа. Гнетущее молчание еще более невыносимой тяжестью повисло в воздухе. Было слышно, как пролетают минуты. Вдруг она поднялась и направилась к умывальнику. Головой нырнув в холодную воду, она по-собачьи отряхнулась и произнесла, энергично вытираясь полотенцем:
– Это уже стало прошлым. Давно. Он не тот, кем я его считала. Он стал другим.
Меня подбросило вверх, будто молнией: ответ звучал многообещающе.
– А кто из нас на вечные времена остается тем, за кого его принимают? – ответил я с горячностью, пытаясь, однако, сохранить хладнокровие, – человек подвержен воздействию внешних сигналов. Он так или иначе отзывается на них, связывая те или иные сигналы с определенными достоинствами своими, – продолжал философствовать я, – И так продолжается до тех пор, покуда ему не откроется истина о собственных глубоких заблуждениях.
– Да, – ответила Хайди, – я заблуждалась.