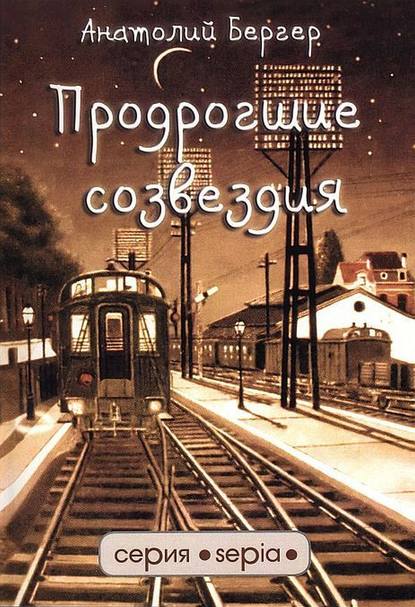 Полная версия
Полная версияПродрогшие созвездия
И дальше: «Он возвращается в своё «ничтожество», то есть к себе домой, ко мне, к нам».
Так чувствовала она, так знала она. Это её признание расставляет все точки над i. Да иначе и быть не могло. Поэт всегда впереди своих самых близких на один шаг – но этот шаг – в бессмертие.
Последнее слово всегда за настоящими стихами. А они будут звучать вечно.
Внезапные заметки
* * *Вчера утром видел на берегу моря, прямо у волны, мёртвую чайку. Она лежала распластанная, спрятав голову под крыло, словно спала, и была в ней какая-то спящая тишина, и не было страшной тёмной покорности, которая всегда так явственна в мертвецах. Волны иногда дотрагивались до неё, как подруги до своей недавней товарки, и во всей бесконечной привычной игре моря не было ни скорби, ни даже умиротворенного сожаления. Чайка всё глубже вникала в мокрый песок. Серые перья торчали длинно и чуть взъерошенно, слегка потрепанные волнами. Солнце из далекой светящейся впадины между рыхло-белеющими облаками бросало иногда свой луч на чайку, но не тревожило её сна. Другие чайки были далеко, у тёмно-синей грани моря и неба, как белая сеть, то вздымались, то снова ложились на воду. Они не помнили о ней, она – о них. Редкие сосны на берегу стояли молча, изредка покачиваясь на ветру. Но уже каркали на ветвях, слетаясь на даровую добычу, тяжёлые, тёмные, внимательные вороны.
* * *Мысль о древнем Китае не такая, как о древней Индии, или Египте, или Вавилоне. Китай уже тогда – это целое человечество. И человечество это и ужасно, и величественно. И правота его сильна, и неправота его мучительна. Человечество это никогда не знало Бога. Оно поклонялось мудрости, заключенной то в жёстких житейских высказываниях Конфуция, то в нарочито расхлябанных гримасничающих сентенциях Лао-цзы, то в тюремно-позвякивающих директивах легистов. И ни в одном слове всех этих мудростей не было Бога. Была государственная убедительность, страшное до глубин понимание человека, мёртвая одномерная регламентация его духа и тела – и не было Бога. В единстве этого народа всегда маячила смутная раскосая маска рабства, но проникновения в самую суть людской природы поражали, и нельзя было найти середины в этой бездне азиатской тайны. Это глубинное понимание существа жизни, тёмное, корневое, как у дерева, презрение к смерти. Это покорная вечная привычка к труду и неимоверная адская жестокость, ювелирное мастерство литературы и живописи и чиновничье чванство одуревших от власти выскочек. Это гениальное открытие благости одиночества – о, уплывающая в никуда, затерянная в дальних заводях маленькая лодка отшельника! И бесконечные дикие войны во все почти дни необозримой истории этого народа. Это оболваненные толпы на площадях, славящие очередного владыку. Так что же ты, Китай, что? Кто ты на земле? Так многообразна твоя природа, что мысль человеческая не охватит тебя, как любого завоевателя, ты и её растворяешь в себе, и мечется она в вечном поиске тебя.
* * *Лондон – не город для туристов. Его солидные здания, благородные мосты, широкие парки создают впечатление уверенности, ухоженности, значительности. И вдруг под небом выпрыгивает яйцо – огромное, нелепое, стеклянное. Улицы, несмотря на активное движение, кажутся замедленными, строгими. Люди, подобные экспонатам этнографического музея – всех расцветок, но улыбаются, показывают дорогу, охотно останавливаются на наши неуклюжие вопросы. Английские памятники – словно ожившие парадоксы. Вот грустный Карл Первый, а неподалеку, почти напротив – его казнитель Кромвель. Вот Ричард Львиное Сердце на притормозившем коне, а рядом Черчилль с его набыченной летящей походкой, манящий стариной Тауэр, скромный Букингемский дворец, а рядом шикарный парламент, когда-то ратовавший за умеренность и пуританскую скромность. Вестминстерское Аббатство – уставший от посетителей Некрополь. Вы топчете камни, под которыми лежат Байрон и Киплинг – вечная слава Англии, а над ними возвышается, пугая пошлой горделивостью, лакействующий Саути, смиренный Вордсворт и много неизвестных нам пышных мертвецов.
Обитель Генриха Восьмого – одновременно грозное и уютное гнездо хищной птицы. Он и сам тут пролетает, заговаривая с прохожими и покрикивая на пажей – женолюб-женоубийца.
В Национальной галерее блуждаешь между Рембрандтом и Вермеером, ранними итальянцами и поздними голландцами. Да и кого там только нет! В Британском музее бродишь среди Древности – Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Узнаешь Вечность в лицо, радуешься Софоклу, Александру Великому, Киру. И это всё Лондон.
2009
* * *Библиотечный институт, девичий заповедник, унылое напряжение бесконечных лекций, сухие лица преподавателей. Как горестно, наверное, себя чувствовало (если бы могло) старинное здание над Невой, здание, из окон которого видна была площадь с мифологическим Суворовым, с летящим вдаль Марсовым полем. Да и сам город, обозванный партийной кличкой крикливого радикала. Каково ему было? Этим дивным дворцам, мостам, памятникам, всей этой великой причуде Петра, брошенной в скудные советские будни.
Век только ещё перевалил за половину. Что маячило впереди? На дворе стояла непоколебимая советчина, чуть ли не вчера ещё умер главный палач и каратель страны, и многие ещё не отёрли слёзы, многие ещё и не думали возвращаться с его похорон. И молодость наша едва начинала расправлять крылья в горьком, застоявшемся воздухе тех лет.
2012
* * *Ночные сны – подножный корм поэта. На исходе ночи, когда сумрак её ещё спаян с прозрачным дуновением рассвета – их время, их царство. Не всегда они дарят сам сюжет стихотворения, но ощущение, из которого рождаются строки – почти всегда, если не успела стереть его безжалостная резинка отдёрнутой занавески или разорвать визгливая пила-ножовка будильника. Но что же в этих снах? Записывать их – занудное дело, хотя Ремизов этим и занимался. Изучать – туманное занятие, хотя Фрейд много преуспел в этом. Лучше всего – рождать из них строки. В снах память запечатлевает самые живые и единственные свои отзвуки. Всё скрытое и глухое, тёмное и невнятное проявляется в них, как внезапный неотвратимый негатив. В снах душа наша вещает, как дельфийский оракул, или это не душа, а Некто, скрытый тайной завесой. Вещие сны давно тревожат человечество. Библия полна ими. Сны фараона косвенно повлияли на судьбу еврейского народа, приведя его в Египет. Сны Иакова и Навуходоносора, сны пророков и царей. Жена Цезаря во сне предупреждена была о его гибели так же, как жена Александра II через много столетий. Сны – вечные рассказчики, бессмертная Шахразада человечества. Поэту, одарённому снами, они великое подспорье. Хотя и мучают, и мытарят, и сводят с ума. Но без них погасли бы ночи и омертвели бы рассветы… И этой ночью снились мне сны, и утром написал я стихотворение.
1986
* * *В поэте поёт природное, человеческое только поправляет.
1973
* * *Поэта учит талантПоэта учит языкПоэта учит народПоэта учит поэтПоэта учит мудрецПоэта учит судьбаПоэта учит Бог1999
* * *Нельзя научить писать стихи, можно научить писать стихами.
1987
* * *Современники обожают мёртвых поэтов и посмертные произведения. Даже у Пушкина, у которого слава опережала удачу при жизни, нашли в столе «Медный всадник».
1980
* * *Литература древней Греции и Рима была по сути своей эпической. Лирика едва пробивалась сквозь железные затворы и скрепы эпоса. Поэты вдохновлялись древними мифологическими сюжетами, только «Фарсалии» гениального Лукана – исключение.
* * *В «Ромео и Джульетте» гибнут почти все молодые – и яркий Меркуцио, и яростный Тибальт, и сам светлый и сильный Ромео, и благородный Парис, и сияющая Джульетта. Остается только Бенволио, самый бесцветный. Старость торжествует свою победу. Грустное торжество.
1983
* * *Россия дважды подвергалась великим влияниям – византийскому православию и Петровскому европеизму. В 1917 году было разрушено и то, и другое.
Возродится ли?
1984
* * *Александр Первый – внук Екатерины Второй, Николай Первый – сын Павла Первого. В этом разница между ними.
1996
* * *Географическая отдалённость страны превращается в историческую.
1979
* * *Где наша мудрость, потерянная ради знаний? Где наши знания, потерянные ради информации?
* * *Насильственное добро порождает противовесом зло, которого могло бы не быть без этого насильственного добра.
* * *Цивилизация есть мировой договор об определённой степени лицемерия.
* * *Сказать это «клёво» – означает почувствовать себя рыбкой на крючке, проглотившей наживку, сказать «прикольно» – почувствовать себя насекомым, насаженным на булавку ловким энтомологом. Слова – убийцы.
* * *Многие в России живут в семидесятых годах двадцатого века, но это не вечная молодость – это вечная старость.
* * *Самое грустное, что в двадцать первом веке нам предстоит прощание не с двадцатым, а с девятнадцатым веком, он остается вдали, как видение, как восемнадцатый век для двадцатого.
1999
* * *Время – понятие, предполагающее непрерывную текучесть. Поэтому реально существует только настоящее, воспринимаемое нами. Прошлое застывает, утрачивает текучесть, следовательно, перестает быть временем, сливаясь с пространством. Прошлое есть пространство, пройденное нами.
1997
* * *Мне кажется, через тысячу лет люди перестанут слышать эмоциональную музыку XIX века, отринут, быть может, вообще человеческие эмоции, но чистый звук Баха они услышат.
* * *Уйти от поэтического многословия XIX века, от настороженной готовности к разрушению – XX, уйти в XXI век – к самому себе, к диктующей точность точности.
* * *Музыка XVI–XVIII веков поёт, музыка XIX века разговаривает, музыка XX века кричит. В XXI веке музыка утратила мелодию, живопись – рисунок, поэзия – смысл. Утвердилось царство голого короля, беспамятных снобов, жреческого междусобойчика, литературных самозванцев.
1982
* * *Величественная наивность Пастернака.
* * *«Три мушкетёра» Александра Дюма – рыцарский роман XIX века.
2013
* * *Современная режиссура – это маркиз де Сад ставит спектакль в сумасшедшем доме.
2013
* * *Я люблю читать книги, в которых примечания не менее интересны, чем основной текст.
* * *Когда в конце восьмидесятых и девяностых годах XX века в Россию хлынула лавина запрещённого, можно было видеть, как по-другому люди читают «1984 год» и «Архипелаг Гулаг». В согбенные советские годы многие спасались этим чтением, сейчас же удовлетворяли любопытство. И в этом таилась опасность. Люди стали терять сопротивляемость Злу, и оно вскоре из полумёртвого превращалось в полуживое. Теперь надежда на Интернет, прообразом которого, видимо, был Самиздат.
2013
Моралите об Орфее
Участвуют:
Орфей (с лирой в руке)
Власть (с мечом)
Богатство (позванивающее золотом)
Ложь (с кривым зеркалом)
Страх (трясущийся с головы до ног)
Наслаждение (с апельсином в руке)
Вера (с крестом в руке)
Иные атрибуты соответствуют средневековым, например, крест и апельсин, иные автор привносит от себя. Действие происходит в раннем средневековье. Сцена представляет собой тёмную площадь, слабо освещённую редкими громоздкими фонарями. Вдали силуэты смутных зданий. Сумрачно. Все, кроме Орфея, по-античному светлого, темны, но в Вере есть ангельские блики, а в Наслаждении – странные отсветы.
Акт I
Орфей: Куда я попал! Какая смутная тишина. Как огромны и темны эти жилища вдали. Какая пустынность в этой тишине. И кто эти странные существа? Я не видывал ещё таких ни в родной гористой Родопии, ни в скитаниях на Арго по косматым морям, ни в страшном царстве Плутона.
Ложь: Ты попал в прекрасные времена настоящей свободы и справедливости, в новый мир, сокрушивший твой несправедливый жестокий мир античности.
Орфей: Но вокруг темно и пустынно, и вы не похожи на славных сыновей такого мира. И за что вы сокрушили мой мир, да и откуда он, этот новый мир?
Власть: Мне не нравится то, что он говорит. Не отрубить ли ему голову? Многие говорили намного меньше его, а где они теперь?
Страх: Да, да, страшись, певец, разговор будет короткий. Они постучат – тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза, сжатые рты, грузные руки, а ты пойдёшь за ними…
Ложь(перебивая): Перестань! И ты, Власть, уймись. Это ж певец, он неизвестно откуда взялся, посмотри, как он одет. Но он красиво говорит, у него в руках дивный инструмент. Он будет петь нашим хмурым толпам, и они размякнут, их тяжёлые лица осклабятся, и они пойдут от него довольные и добрые. И назавтра ещё будут помнить об этом пенье, и тебе не придётся махать мечом, а мне подсовывать им кривое зеркало, а Страху трястись и пугать их.
Орфей: О чём вы говорите? Я ничего не пойму. И зачем я здесь? У меня были разные приключения в жизни. Я испытал опасности скитаний, стройное счастье любви, безмерную радость искусства. Когда я пел в Тартаре, пройдя Тирейские ворота, бросил свой камень Сизиф и сел на него, остановилось колесо Иксиона, встала вода, охватившая Тантала, и перестал он глотать, захлёбываясь, и даже Цербер опустил три главы свои и замер. И Плутон не отказал мне тогда и отдал мне мою любимую Эвридику. Но даже счастливая любовь недоверчива, и мы боимся исполнения своих желаний. И я оглянулся, не вынес запрета, и пропала жена. Так дважды я лишился любимой. И нужно ли было мне идти за ней и просить Аида, раз любовь по природе своей жестока и не знает удовлетворения.
Наслаждение: Да, певец, ты прав. Любовь жестока и лжива, и никогда не знает удовлетворения, но его знаю я. Меня зовут Наслаждение. Суть моя в разнообразии. Женщины ведь совсем иные существа, чуждые человеку, и соединиться с одной из них надолго – значит, утратить часть себя и забыть о многом. Твоя душа будет перемалываться в маленькой, но безостановочной мельнице странного устройства – то, что казалось тебе высоким, окажется несерьёзным, то, что справедливым – эгоистичным. Твоя самоотверженность будет принята за слабость, и на ней будут играть, твоя открытость – за хитрость, и ты будешь наказан за всё, что не годится для зубцов этой мельницы. Тебе будут пробираться в душу, обещать рай, а оказавшись в душе, повергнут её в ад. Нет, твоя жена правильно сделала, что умерла, едва прожив два месяца со свадьбы (Я ведь слышало о тебе). И правильно ты оглянулся в Аду, то певческая твоя природа победила в тебе и настояла на высокой судьбе. Разнообразия, Орфей, разнообразия, иных женщин, и тогда ты обновишься с каждой.
Орфей: Но ведь вскоре после того меня разорвали вакханки, и кончились мои песни. Нет, с Эвридикой я знал стройное счастье любви, и в душе моей звучала ещё одна лира, подобная этой. А до того я был одинок, я томился без любви, и мир для меня был неполон. Мне порой не хватало устойчивости. О, милая Эвридика, ты дала моим песням новые тона и звучанье, я стал добрее к людям и увидел в них нечто, до того неведомое мне.
Вера: Мне нравятся твои речи, чужеземец. Ты не отступаешь от своего и веришь в то, во что веришь. И хоть для тебя, видно, чужд этот крест, мне по душе то, что ты говоришь.
Власть: Ну, хватит вам болтать и выяснять непонятные для меня вещи. Что это за человек, почему у него в руках лира, а не лопата, почему он одет так вызывающе и в разговорах не упоминает обо мне, о нашем прекрасном времени и новом мире, о нашем великом средневековье? Отвечай.
Ложь: Подожди, ты опять испугаешь его.
Страх: Да, да они постучат – тук-тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза…
Ложь: Да подожди ты, он вправду умрёт от страха, как многие. Дайте ему сказать.
Акт II
Орфей: Я ничего не понимаю. Кто же вы всё-таки такие, отчего ты с мечом в руке так уверен в своей силе, а ты с кривым зеркалом – в своём зеркале? Что это за площадь, что это за ночь, что это за новые времена?
Власть: Вот ты узнаешь, что это за времена, если будешь так много болтать, как болтал до сих пор. Кому интересны твои любовные дела, если они чужды духу нашего времени. Наши женщины не попадают в ад, их путь только в Рай.
Ложь: Подожди. Послушай меня, певец. Наше время сурово, но прекрасно. Всё, что мы сделали, мы сделали своими руками, ты видишь эти постройки вдали, эти мосты, улицы, фонари. Мы работаем на себя. И наши люди сумрачны на вид, но светлы внутри. Им надо петь понятные, воодушевляющие их песни, и ты прекрасно сможешь это делать на своей лире. А мы уж тебя наградим всем, чего тебе будет не хватать, лучше, чем в твоей пышной Элладе.
Орфей: Но и в моей Элладе люди работали на себя, на кого же ещё?
Ложь: Они работали на богачей, эксплуатировали рабов.
Орфей: А вы куда дели рабов?
Ложь: Рабы все на воле. Так теперь не называется никто в нашем великом средневековье.
Орфей: Значит, вы тоже из рабов?
Ложь: Да, мы вышли из рабов и горды этим.
Орфей: И я попал во времена правления рабов, времена, о которых боялись вещать самые страшные провидцы Эллады.
Власть: Тебя, видно, это пугает, жалкий анахронизм.
Страх: Да, пусть тебя это страшит. Тебя поведут вниз по лестнице, и прохожие будут отшатываться и пугливо убегать дальше…
Ложь: Перестаньте. Вы дудите одно и то же. Он всё поймёт, этот наивный древний певец. Ты будешь помогать нам воспитывать наших людей, мы же не заставим тебя работать. Ты видишь, мы сами не работаем, а сколько у нас помощников, которые тоже не работают и помогают нам. У одних мечи, у других кривые зеркала в руках. И никто из них не работает, но всех щедро оделяет вот этот с кошелём в руках.
Богатство (позваниваязолотом): Да, я богато. Послушай, если ты сделаешь, как тебе говорят, многие умрут от зависти, глядя на твою жизнь. Ты будешь жить в одной из великолепных построек со всеми удобствами, которых не знало ваше грубое время. У тебя будут собственные лошади и кучера, лучшие харчевни будут тебе по карману, лучшие женщины пойдут с тобой, стоит только поманить их.
Наслажденье: Да, в наше время золото для женщин – главное.
Богатство: Ты будешь ездить по всему миру, говоря, конечно, то, что тебе положено, летом и зимой ты будешь жить на своей вилле или выезжать в южные края и купаться в море под сладким солнцем. Ты оденешься по моде, твою лиру можно сделать хоть золотой и всячески изукрасить её, а одну струну на ней ты сможешь приспособить не для воспитанья хмурых толп, встающих из-за верстака и возвращающихся с серпом в руках с полей, а для себя и некоторых, нуждающихся в таком звоне. Он будет успокаивать их лёгкий зуд по иным временам. И даст им возможность гордо поглядывать на этого дрожащего беднягу.
Страх: Да, да, на меня гордо поглядывают, но до поры до времени, да… Они постучат – тук-тук…
Ложь: Перестань. Ну что ж, певец, ты понял, куда попал? Понял, что это за площадь, что это за ночь, что это за новые времена?
Орфей: Кажется, да. Мне страшно, человек с кривым зеркалом, мне страшно, человек с мечом, мне страшно, человек с золотом.
Страх: Ха-ха-ха!
Вера: Ничего, есть ещё я. Я держусь во все времена, и меня не убить. Ты видишь крест у меня в руке, с ним шли на костёр и на пытку и не отступались от своего. Крест – это символ человеческого сердца, которое бьётся в груди, а не отражается в кривом зеркале. И все, в ком оно бьётся ещё, помнят обо мне и знают меня. Есть ещё люди среди хмурых толп и в красивых жилищах, в ком жива совесть и кто не смирился. Даже среди рабов есть такие сердца, Орфей, даже в наше время средневековья и лжи.
Орфей: Я певец, я воспевал сквозные узоры и поросшую сумраком шкуру морей и лужайку, где прячутся с милой. Меня заслушиваются птицы и звери, деревья и ручьи, и даже грозный призрачный Аид сиял от моих песен. Но я в силах создавать музыку, когда она сама рождается в груди и сама ищет вольного проявления. Как можно иначе? Разве это заменишь звоном монет, разве на это подействует трусливая дрожь? Никакое кривое зеркало не преобразит дурную песню в дивную, и никакой меч не убьёт прекрасной песни. Так я пою и так я живу. Иного не знаю и не могу.
Власть: Ну, погоди же.
Акт III
Ложь: Ты твёрдо решил, певец? Пора раскаяния будет долгой.
Орфей: Господи, куда я попал? Самые страшные провидцы моих времён не предрекали такого и убоялись бы своих прорицаний. Я истерзан болью по Эвридике, тело моё рвут вакханки, а тут эта площадь, эти фонари, эти люди… Где моя мраморная Эллада, моё античное солнце? Тогда не было этих тёмных одежд, кривых зеркал и ржавых мечей. Никто не трясся от страха, у кого спокойная совесть и чистая душа. Когда это всё погибло под ударами этих хмурых толп и ватаг рабов? Когда разрушен был мрамор, и на смену ему пришли кирпич и железо? Я не был при этом, почему я должен отвечать за всё?
Вера: Ты попал сюда, и у тебя нет другого выхода. Раз ты родился на свет когда-то, ты должен отвечать за всё – и за то, что было до тебя, и за то, что творится при тебе, и за то, что случится в грядущем. Таков твой жребий, если ты не обманут кривым зеркалом и в тебе жива совесть.
Богатство: Орфей, Орфей! У тебя будут чудесные комнаты, роскошные виллы, лошади. Ты будешь ездить на юг и на запад, и куда хочешь. Тебя будут переписывать на лучшей бумаге государственные переписчики.
Наслаждение: Лучшие женщины будут с тобой, прелестные, как лани Родопских гор. А что лучше женщин, Орфей? Ведь без них нельзя человеку. И ты будешь пить сладостные вина, которых не было в Элладе. Соглашайся, сила не так уж страшна, зеркало не так уж криво. А золото всегда есть золото. Оно не обманет. Послушай что тебе говорят, мы ведь не так глупы. Главное, ты будешь всё-таки петь.
Орфей: Но это будут не мои песни. И потом, этим ржавым мечом убивали тех, кто любил бы моё пенье, если бы слышал. Да и признать кривое зеркало за настоящее я не могу. Я Орфей, я пел аргонавтам, меня слушая, потрясено было царство Плутона, и сам Цербер опустил три главы свои и замер, и бросил свой камень Сизиф и сел на него, и встала вода, охватившая Тантала, и перестал он глотать её, захлёбываясь…
Ложь: Довольно. Ты знаешь, куда ты попал, и кто мы. Нам не нужны твои песни, хоть заслушивались их деревья и ручьи, звери и птицы. Нам нужны наши песни. Смотри, Власть уже машет мечом, а Страх трясётся всё пуще. Решай же.
Орфей (трогая струны лиры): Лира – мой ответ, музыка – моя правда, пенье – мой жребий.
Власть: Тогда берегись! (Подступает к нему с мечом)
Орфей: Что тебе нужно от меня?
Власть: Ты пойдёшь со мной, это будет куда страшнее твоего Аида.
Орфей: Не тронь мою лиру.
Власть: Ха-ха-ха. Твоя песенка спета, певец.
Орфей: Мне страшно.
Вера: Не бойся.
Орфей: Дайте пройти мне по площади, глянуть на сумрачное небо, на слабые блики ночных фонарей…
Страх: Да, страшись, певец, разговор будет коротким. Они постучат – тук-тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза, сжатые рты, грузные руки. Ты пойдёшь с ними, тебя поведут вниз по лестнице, и прохожие будут отшатываться и пугливо убегать дальше. И тебя приведут за железную решётку, и ты будешь спать на железе, по тебе будут шнырять крысы, со стен будет сочиться сырость, а наутро начнётся пора пыток. Тебе будут вырывать ногти, углями обжигать пятки, не давать спать дни и ночи…
Власть: Хватит, не предвкушай того, что придёт своим чередом. Пошли, певец. И можешь бросить лиру, она тебе уже ни к чему. Это не царство Плутона.
Ложь: Ах, наивный древний певец, почему не послушался меня, я ведь так умна и убедительна, и уговорила столь многих.
Богатство: И меня, я так хорошо звеню.
Наслаждение: И меня, ведь всё равно нет ничего лучше женщин и чудных вин.
Вера: Древний чужеземец, я осеню тебя.
Власть: Пошли, пошли.
КОНЕЦ
1968
Посмертная ремарка
Действующие лица:
Граф Роджер Рэтленд
Елизавета Сидней – его жена
Граф Генри Ризли Саутгемптон
Граф Роберт Девере Эссекс
Шакспер – актер
Бен Джонсон – драматург
Призрак принца Гамлета
Дворецкий в замке Бельвуар
Пролог
Дом графа Эссекса в Лондоне. 8 февраля 1601 года. Эссекс, Рэтленд, Саутгемптон.
Эссекс: Ну, всё, друзья. Дом окружён. Войска лорда-адмирала подкатывают пушки. Нам не продержаться. Всё, друзья, всё.
Рэтленд: Граф, мы должны продержаться, люди сбегаются к Вашему дому, они помогут нам.
Саутгемптон: Нет, Роджер, сэр Роберт прав, народ разбегался, видя нас на улицах Сити. Наши шпаги больше не нужны – единственные наши помощники. Дом окружён, нас убьют очень скоро. Это не беда, ещё одно сражение, ещё одна смерть – на этот раз твоя собственная, но не вечно же нам жить, пора и честь знать.

