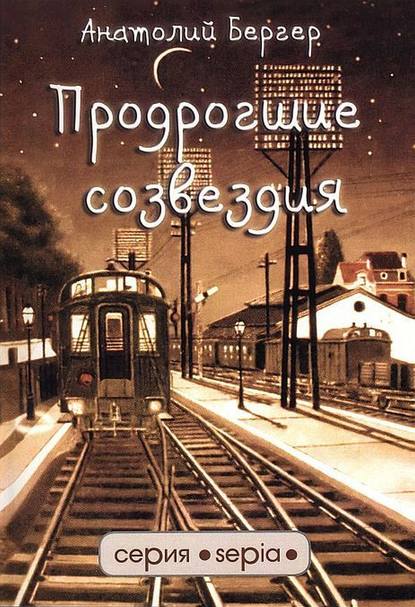 Полная версия
Полная версияПродрогшие созвездия
Но эти мирные дни в 1921 году были позади. Берберова была уже в Петербурге.
И теперь о Берберовой.
Берберова пишет, что её дед со стороны матери «принадлежал к вольнолюбивому тверскому земству, а лицом был совершенный татарин». В дальнейшем она документально подтверждает принадлежность материнского рода к татарам, что, впрочем, в России далеко не редкость. Фамилия матери была Караулова.
Дед же Берберовой со стороны отца был потомком армян, давно уже живших в России, в Крыму. Потом они перебрались в Ростов. Отец Берберовой учился в Москве. Красоту Нина унаследовала от него – большие чёрные глаза, тонкие черты лица.
Девочкой Нина росла своевольной, совсем не церковной, очень наблюдательной и приметливой. Память у неё с детства была блестящая. И думать она тоже умела уже с детства. Кроме того, она очень рано поняла ценность и необходимость одиночества. Это была сильная личность – многие романтические милые обманы мира она отринула очень рано. Такие люди рождаются для великих порой дел, но в обыденной жизни могут быть жестоки и безжалостны. Зато они честны, они не скрывают, не прячут себя. Всё это важно знать читателю, ибо в дальнейшем отношения Ходасевича и Берберовой и развивались под знаком её душевного Зодиака, любовь её не переменила.
Стихи пришли к ней в юности и, как у многих начинающих, первой любовью был Лермонтов. Потом гимназия, Уайльд и Метерлинк, Гамсун и Ибсен, Бодлер и Ницше, Анненский и Тютчев. И наконец, символисты, и на счастье, ей явились они не в книгах только, она – современница Серебряного века, вошла в него, как в родной дом. И встретила в этом доме Ходасевича.
Итак, впереди была чужбина. Здесь необходимо широко процитировать Берберову. То, что она пишет в «Курсиве», очень важно для понимания причин её и Ходасевича отъезда за границу и конечно, их отношений в то время.
«Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России – нет никакой даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собой разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы. Мой выбор был он, и моё решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга».
Это очень важные слова. Можно сколько угодно доказывать, что да, трезвый расчёт и логика диктовали тот же выход, что спасаться надо было всей мыслящей, творческой России, потому что большевизм – это смерть или рабство, но люди часто так слабы, нерешительны. Так влекут фантомы собственной мифологии, и кто может им противостоять? И любовь, как некая внешняя сила, как и в самом деле, смерч, ураган, схватила их и унесла в другую землю, под другое небо. И спасла их, хотя нелегким было это спасение. Разлука с родиной, для поэта особенно, кровоточаще мучительна. Он теряет язык, что бы там ни говорили апологеты эмиграции. Да, страдание ностальгии рождает великую поэзию, музыку, живопись. И в случае Ходасевича так было. И в случае Мицкевича и Словацкого, Байрона и Шелли, и конечно, Цветаевой и Георгия Иванова, и Набокова, и наконец, Бродского. Но не эмиграция рождает поэта. Тут другое. Бердяев однажды написал: «Обогащает не самое зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла». Вот этой силе мы обязаны «Европейской ночью», но зло, о котором говорил Бердяев, всё же заставило замолчать великого поэта за десять лет до смерти – представить подобный вариант у Пушкина, Пастернака – всё лучшее ими создано в последние 10–25 лет – ужасно даже подумать об этом. Но случилось то, что случилось. Ходасевич и Берберова покинули Россию.
Первым городом за границей, где остановились наши герои, был Берлин. Здесь поначалу было много русских эмигрантов. Берберова перечисляет массу фамилий – среди них В.Шкловский, Нина Петровская и поэт Минский – не только Серебряный век, но и осколки ХIХ века. Ближе всего к Ходасевичу и Берберовой – Андрей Белый, но мелькают имена и Цветаевой, и Эренбурга, и Зайцева, и Муратова, и многих других. Теперь влюблённым не надо скрывать своих отношений – потерянным, неустроенным, лихорадочно мятущимся людям не до них в чужой стране, в чужом, тяжко-огромном городе, «мачехе российских городов».
Ходасевичу и здесь пишется. Рождаются стихи «Европейской ночи» – «С берлинской улицы вверху луна видна», «Берлинское». Язык жёсток, как дантовский «чёрствый хлеб изгнания», точность убедительна, как слова умирающего, Нет, и не было в русской поэзии подобной точности, подобной горечи, подобной жёсткости. Ни пафоса, ни плача, ни полутона – интонация выразительна, как взгляд летящего в бездну, – взгляд, а не крик. Одиночество, отчаяние – и ни слова о любви. Но что же говорить о любви, если она здесь, рядом, если она держит тебя за руку, если она шепчет тебе в ответ твои же слова… Счастливая любовь не рождает стихов – таково её свойство. В конце жизни, как я уже говорил, Ходасевич почти не писал стихов. Но всё-таки несколько строк вырвалось у него и среди них стихи о любви к ней – Берберовой уже после разлуки: «Нет, не шотландской королевой» и ещё одно полушуточное, но такое грустное «К Лиле». Горькую цену пришлось заплатить за эти стихи. Но не будем забегать вперёд.
Итак, жизнь за границей. Чужие стены, чужой воздух. Но кругом ещё пока много близких, милых лиц, звучит родная русская речь, и в чьих устах – Андрея Белого, Муратова, Горького.
Здесь мы должны идти по следам Берберовой, её замечательно талантливый путеводитель крестного пути эмиграции «Курсив мой» ведёт безошибочно. Она рассказывает об А.Белом, мы видим этого как бы танцующего безумный свой танец жизни и судьбы гениального человека. А вот о других. Я цитирую:
«Летом 1923 года он (А.Белый – А.Б.) приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяев, Муратов и мы. Шёл дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах. Под ветром и дождём, вечером смотрели в кино «Доктора Марбург». У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживлённо, с тяжёлой тростью Н.А.Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны».
Быт ещё не мучает, не продавливает душу, дух воистину дышит, где хочет. А Германия начала 20-х для русской эмиграции пока ещё гостеприимна. Ходасевич и Берберова вместе, их любовь как бы легализована, признана окружающими. У неё рождаются стихи. Она слышит, как шумит ей в уши не только Балтийское море, нет, Серебряный век, спасшийся от большевистского потопа на клочке Европы, шумит вокруг! Как она всё запомнила!
Вот одна из её блистательных зарисовок:
«Более светскими местами были те кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окружённые мошкарой, цветные фонарики, под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотц штрассе. Все мы – бессонные русские – иногда по утрам бродим по этим улицам…»
Но мучительность бытия (не быта пока ещё – бытия человеческого) порою ломилась в дверь. Вот в гостях у них Нина Петровская, брошенная возлюбленная В.Брюсова, давний друг Ходасевича, так сильно воссозданная им в «Некрополе», воистину жертва декадентства как способа жизни, «бедная Нина», наркоманка, алкоголичка, вся поглощённая своим прошлым. Берберова пишет: «Ночью она не могла спать, ей нужно было ещё и ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой «моей» комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, курением, одуревший от её пьяных глаз и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной». И дальше: «Просматривая записи Ходасевича 1922–1923 годов, я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях». Я думаю, не только они – Ходасевич с Берберовой, но все почти эмигранты тогда были на людях – волны чужбины окружали, но свой круг спасал, был маленькой, но живой, подлинной Россией.
Какое-то время наши герои провели в гостях у Горького, с которым дружил Ходасевич, в Херингодорфе на берегу Балтийского моря, а позже на Капри (воспоминания Берберовой дополняет знаменитый очерк Ходасевича о Горьком). Может быть, это была для Берберовой и Ходасевича не самая романтичная и трепетная пора их любви, но несомненно, самая насыщенная впечатлениями духовными, литературными, незабываемыми.
Берберова рассказывает о поездке в Венецию, «где я (пишет она – А.Б.) сначала подавлена, а потом вознесена увиденным. Я только частично участвую в его переживаниях, я знаю, что он сейчас смешивает меня с кем-то прежним, а позже такие строчки, как
Пугливо голуби неслисьОт ног возлюбленной моей,мне будет естественно делить с его возлюбленной (Женей Муратовой) 1911 года. У меня, тем не менее, отчетливое сознание, что «моё», и что не «моё». Его молодость не моя. Для меня и своё-то прошлое никогда не стоит настоящего, он же захвачен тем, что было здесь тринадцать лет тому назад (и что отражено в стихах его второго сборника «Счастливый домик»), и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их. И мне становятся они дороги, потому что они – его, но я не вполне понимаю его: если всё это уже было им «выжато» в стихи, то почему оно ещё волнует его, действует на него?» Очень важные слова. Здесь и разгадка во многом того, что произойдёт в дальнейшем, а произойдёт расставание, Берберова уйдёт от Ходасевича, ибо прошлое для неё «никогда не стоит настоящего», хотя бы там, в прошлом, был Ходасевич. А в настоящем – увы, но не будем забегать вперёд.
После поездки в Италию, после венецианской сказки и римских походов с Муратовым они оседают в Париже. Париж для них всё-таки будни, наступает подлинный эмигрантский быт, и только творчество, любовь преображают его в бытиё. «Поселили нас с Ходасевичем на седьмом этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей, всю комнату занимала огромная не двуспальная, а трёхспальная кровать. В окна была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-чёрное. Внизу шли угрюмые, дымные поезда (тогда ещё существовала там железная дорога). На следующий вечер был балет в театре Шан-в-Элизе. Потом ночь на Монмартре. А на следующий день я нашла квартиру, вернее, комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай. Почти наискось от «Ротонды». Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела на кухне и смотрела в окно».
Я так подробно цитирую «Курсив мой» потому что то, о чём пишет Берберова, напоминает древнегреческие силлогизмы, а их нельзя пересказывать. Быт не бытие – словно говорит она, чувствуете, как любовь уходит, уходит, как волна, но песок ещё влажен, влажен и пахнет морем. Ловите этот запах, впитывайте его, ибо он исчезнет, ночь поглотит его, а новый день почти забудет о нём. Париж, Париж…
«Мы с ним (Ходасевичем – А.Б.) ходим по городу. Лето. Жарко. Деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает… Вдвоём и в одиночку мы бродим». Берберова роняет важное признание: «Слишком сильно надавила на меня внезапная наша бедность».
Момент и вправду был трудный. 1924 год. Россия для них закрыта. Там большевистская власть всё сильнее и тюремнее. Ходасевичу обратной дороги нет. Берберова пишет о тех отчаянных днях: «Ходасевич, измождённый бессонницей, не находящий себе места: «Здесь не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный «личный» или «частный» ад вокруг себя, и как тянет меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним… Я леденею от мысли, что вот, наконец, нашлось что-то, что сильнее и меня и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России – и умоляет меня умереть вместе с ним».
Страшные слова, страшные признания. «Сильна, как смерть, любовь», но и смерть сильна, как любовь. Кто кого пересилит. Можно понять Берберову – более слабая женщина могла поддаться мольбам любимого, и что тогда? Берберова сама пишет, что у неё «чугунное нутро». Слава Богу, оно их спасло в тот раз. Потом – иначе. Но сейчас – опять слово Берберовой.
«Окончательно переезжаем мы в Париж в апреле 1925 года. Теперь он смирился… Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда и, значит, все задачи сами собой разрешены: надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как в тесный и грязноватый Притти – отель на улице Амели, не раз с тех пор описанный в мемуарах иностранной богемы – в частности, в одной из книг Генри Миллера. Тут мы начинаем нашу жизнь в Париже. Тут мы получаем документ «апатридов», людей без родины, не имеющих права работать на жалованье, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим место и постоянный заработок. Мы можем работать только «свободно», как люди свободных профессий, то есть сдельно, такое нам ставят клеймо. Тут мы научаемся делить один артишокный листик на двоих, делить пополам каждую заработанную копейку, делить обиды, делить бессонницы… В электрической кастрюле можно было вскипятить воду для трёх чашек чая, и среди ночи, когда не спалось, мы пили чай, сидя на кровати рядом, и опять не спали, говорили без конца, что-то решали и всё не могли решить (а жизнь каждое утро принималась решать за нас). Иногда он плакал, ломал руки, и я пугалась настоящего, а о будущем в те ночи и не думала: какая это роскошь – думать о будущем».
Быт уничтожал бытие жадно и безжалостно. Но Ходасевич тогда ещё писал свои стихи, рыцарь ещё сражался своим огненным мечом с фосфорисцирующим скелетом Смерти. Но как же отчаянны эти стихи! Вот гениальное «Перед зеркалом»:
Я, я, я. Что за дикое слово!Неужели вот тот – это я?Разве мама любила такого,Жёлто-серого, полуседогоИ всезнающего, как змея?Разве мальчик, в Останкине летомТанцевавший на дачных балах, —Это я, тот, кто каждым ответомЖёлторотым внушает поэтамОтвращение, злобу и страх?Разве тот, кто в полночные спорыВсю мальчишечью вкладывал прыть, —Это я, тот же самый, которыйНа трагические разговорыНаучился молчать и шутить?Впрочем, так и всегда на срединеРокового земного пути:От ничтожной причины – к причине,А глядишь – заплутался в пустыне,И своих же следов не найти.Да, меня не пантера прыжкамиНа парижский чердак загнала.И Вергилия нет за плечами, —Только есть одиночество – в рамеГоворящего правду стекла.18–23 июля 1924, ПарижВот «Баллада»:
Мне невозможно быть собой,Мне хочется сойти с ума,Когда с беременной женойИдёт безрукий в синема.Мне ангел лиру подаёт,Мне мир прозрачен, как стекло,А он сейчас разинет ротПред идиотствами Шарло.За что свой незаметный векВлачит в неравенстве такомБеззлобный смирный человекС опустошённым рукавом?Мне хочется сойти с ума,Когда с беременной женойБезрукий прочь из синемаИдёт по улице домой.Ременный бич я достаюС протяжным окриком тогдаИ ангелов наотмашь бью,И ангелы сквозь проводаВзлетают в городскую высь.Так с венетийских площадейПугливо голуби неслисьОт ног возлюбленной моей.Тогда прилично шляпу сняв,К безрукому я подхожу,Тихонько трогаю рукавИ речь такую завожу:«Pardon, monsieur», когда в адуЗа жизнь надменную моюЯ казнь достойную найду,А вы с супругою в раюСпокойно будете витать,Юдоль земную созерцать,Напевы дивные внимать,Крылами белыми сиять, —Тогда с прохладнейших высотМне сбросьте перышко одно:Пускай снежинкой упадётНа грудь спалённую оно».Стоит безрукий предо мнойИ улыбается слегка,И удаляется с женой,Не приподнявши котелка.1925Эти стихи – сама Вечность в «бедной комнате» парижской бедной улицы. Впервые в русской поэзии так пронзительно, так безжалостно-точно скудные приметы жизни возвышаются до Божественных высот, становятся явлением высокой поэзии, входят в несменяемый строй русского языка. Для нас сегодня эти строки искупают всё. Что нам до жизни поэта? До его мук, болезней, страданий. «И было мукою для них что людям музыкой казалось», – писал когда-то Иннокентий Анненский, сам испивший ту же горькую чашу. Ходасевича стихи спасали всё-таки. Берберову спасала молодость и характер. Но всё труднее, всё труднее это спасение вдвоём.
Снова приходится цитировать «курсив»: «Он (Ходасевич – А.Б.) встаёт поздно, если вообще встаёт, иногда к полудню, иногда к часу. Днём он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда сидит в редакции «Дней». Возвращается униженный, раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно… Ночами Ходасевич пишет. Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы она была тёплой, когда он захочет её надеть. Я просыпаюсь – у него в комнате свет. Бывает, что я утром встаю, а он ещё не ложился. Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Я клюю носом, после кофе или чая он иногда засыпает, иногда нет… Быта не было. И не могло быть. Да мы и не хотели его. Но я помню, что два ощущения были свойственны мне в те годы: чувство свободы и чувство связанности. Первое было в тесной зависимости от моей жизни в западном мире и моей собственной молодости, от книг, которые я читала, от людей, с которыми я встречалась и сближалась, со всем моим внутренним ростом и с тем, что я писала тогда. Чувство связанности (или несвободы) было соединено со всем, что касалось моей судьбы вне России, Ходасевича, нашего «дома», времени и места моих дней и лет. Это чувство связанности держало меня неделями в каком-то необъяснимом умственном застое, тоске, страхе. За страхом всегда, как сторож каждого моего шага, стояла бедность, тревога (пополам с болью) быть вдвоём, сознание, что мы оба находимся в мучительной зависимости друг от друга. Он не скрывал её от меня, я не скрывала от него. Обыкновенные мерки «мужа» и «жены», «брата» и «сестры» были бы к нам неприложимы. Ткань жизни ткалась днями и ночами, ночи зависели от дней. То, что снилось – переходило в реальность, то, что мелькало при свете – в бессонницу, преображалось в раздумья. Четыре стены, два человека. Они открыты друг другу (потому что между ними сверкает не только «духовная», но и «физическая» близость). Как много таинственного «всходит» в этой жизни вдвоём, когда видишь, как ткётся самая основа существования – из шума в тишину, из толпы в одиночество, из ночи в день и из дня в ночь. Как много «всходит» потом и как много теряется и пропадает, оставив только лёгкий след, который вдруг начинает таинственно жить в тебе вторым пластом. Первый – всегда со мной, а этот второй я могу только изредка ухватить, он ускользает от меня. Я прислушиваюсь к нему, но бывают дни, когда его не слышно вовсе…»
Пожалуй, нигде в книге Берберова так не откровенна, как в этих строчках. И надо сказать – она удивительно точна, она по-своему права в каждом слове, хотя слово «быт» она понимает обывательски, как нечто устроенное, при чём можно «быть». Но не будем спорить с ней. Она права в том, что самодостаточна. И в том, что в своей любви равна сама себе. И Ходасевич, видевший, по словам его предыдущей жены Анны Ивановны, людей насквозь, это знал, и никаких иллюзий у него не было. Но есть всё-таки иллюзии любви. Они сильней всего, хотя их тоже можно пережить. Если переживёшь.
И Ходасевич недаром однажды сказал Берберовой: «В общем, тебе никто не нужен, ведь так!» – «Ты нужен», – ответила она. «До поры до времени». Он всё понимал, всё предугадывал. Но что было делать? Жизнь сама всё решала, как всегда было на земле, и как всегда на земле будет. А пламенеющая надпись на древней ниневийской стене проступала всё явственней.
Берберова пишет: «Он (Ходасевич – А.Б.) много кашлял. У него (уже тогда) бывали долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М.К.Голованов (лечивший его даром) щупает его и говорит, что это, вероятно, печень, но диеты не даёт, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны. Ни салата, ни супа, ни фруктов, ни всего того, что обыкновенно дают больным. Через год возобновляется фурункулёз. Голованов делает уколы, но они не помогают. Он прописывает пилюли – безрезультатно. Больному надо менять бельё через день». Берберова уже говорит о нём «больной». Горько читать эти страницы. Не всякая женщина способна на самопожертвование, не всякая любовь жертвенна, да и не давали Ходасевич и Берберова такой клятвы. Осуждать не приходится.
Они пока ещё вместе. Она ещё не уходит. Но часы уже начали свой отсчёт. Двадцатые годы – годы их встречи, любви, отъезда из России – кончаются. Начинаются тридцатые – неотменные годы чужбины, её мытарств и метаний, её неизбывных будней. А будни – страшней всего на свете. Единственное спасение – творчество. Но:
Нелёгкий труд, о Боже правый,Всю жизнь воссоздавать мечтойТвой мир, горящий звёздной славойИ первозданною красой.И поэту всё тяжелее «падать вниз головой». Берберова пишет: «Он болеет, он падает духом. Он говорит, что высыхает и не может писать стихи… Он уходит иногда на весь день (или на всю ночь) в свои раздумья»… Читаешь «Курсив» и чувствуешь по интонации, по звукам замирающее шествие уходящей любви. Удивительное явление – слово. Оно выдает. В него нельзя спрятаться. Да Берберова и не пытается. Она, надо отдать ей должное, честна и открыта, она пишет правду, может быть, не всю, что-то остаётся внутри, но кто потребует всего, до изнанки? Только Бог на Страшном Суде. А нам, смертным, и того, что сказано – довольно. Она разлюбила его. И хотя на многих страницах она пишет, что всё происходило медленно, что «трещина» возникла как-то внезапно, но без видимых причин – это не так интересно, это понятно. Ей нужны эти строки, они – внутреннее самооправдание. Всё-таки от «мраморов Каррары» к «трухе» без самооправданий не уйти. Даже ей – Нине Николаевне Берберовой. И она пишет, как он человечески становится ей в тягость, пишет о том «полубезумном восторге» быть без него, Ходасевича, хотя берёт в кавычки этот восторг. И вот, наконец, она произносит эти слова: «Теперь я знала, что уйду от него, и я знала, что мне надо это сделать как можно скорее, не ждать слишком долго». Ей кажется, что ему будет гораздо больнее знать, что она ушла к кому-то. И уходя к кому-то, она пишет, что уходила ни к кому. Такое женское, такое человеческое, такое змеиное лицемерие.
Н.В.М.(Н.В.Макеев), к которому ушла Берберова, был просто эмигрант из преуспевающих, человек не литературный. Ходасевичу это было, наверное, легче. Ведь Марина Рындина уходила к Маковскому, не к Макееву всё-таки. Потом развелась и с ним, как Берберова с Макеевым в 1945 году. Она ушла. Она покинула его, оставила одного с его страхами, отчаянностями, воспоминаниями, снами.
«В открытом настежь окне он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме». Был апрель 1932 года. Так кончилась эта любовь. Впрочем, нет, она кончилась его смертью в 1939 году. Берберова записала подробно его последние дни, часы. Она выполнила долг перед потомками, спасибо ей за это. Не во имя любви, во имя Вечности. Это тоже чего-нибудь стоит. Тяжко цитировать эти записи. Как записи очевидцев умирания Пушкина. Но всё-таки одну цитату надо привести. Их последнее прощанье.
«Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9-го июня, в 2 часа дня. Я знала (и он знал), что до операции я его уже не увижу. «Быть где-то, – сказал он, заливаясь слезами, – и ничего не знать о тебе!». Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал: «Я знаю, я только помеха в твоей жизни… Но быть где-то в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе… Только о тебе… Только о тебе… только тебя люблю… Всё время о тебе, днём и ночью об одной тебе… Ты же знаешь сама… Как я буду без тебя… Где я буду? Ну, всё равно. Только ты будь счастлива и здорова, езди медленно (на автомобиле). Теперь прощай». Я подошла к нему. Он стал крестить моё лицо и руки. Я целовала его сморщенный жёлтый лоб, он целовал мои руки, заливал их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые острые плечи. «Прощай, прощай, – говорил он, – будь счастлива. Господь тебя сохранит».
Владислав Фелицианович Ходасевич умер 14 июня 1939 года. Нина Николаевна Берберова умерла в 1993 году. Она пережила его на 54 года. Это больше, чем он прожил на земле.
P.S. Может быть, надо добавить ещё несколько слов, чтобы не создалось впечатления, что главной в их союзе была она – Нина Берберова. Между прочим, опять же опираясь на её слова в «Курсиве». Она пишет об их жизни:
«И прежде всего я вижу в ней полное отсутствие какой-либо конкуренции между «ею» и «им». Что бывает почти всегда и у всех: Ходасевич и я – люди одной профессии, но нет и не может быть моего с ним соперничества, ни на людях, ни когда мы вдвоём, с первой нашей встречи и до последнего его часа не было мысли о возможности хотя бы когда-нибудь для меня сравняться с ним. Он – всегда первый, сомнений в этом нет, нет борьбы за первенство. Нет спора, это – непреложный факт нашей жизни. Я иду за ним, как ходят женщины на шаг позади мужчины в японском кино, и я счастлива ходить на шаг позади него…»

