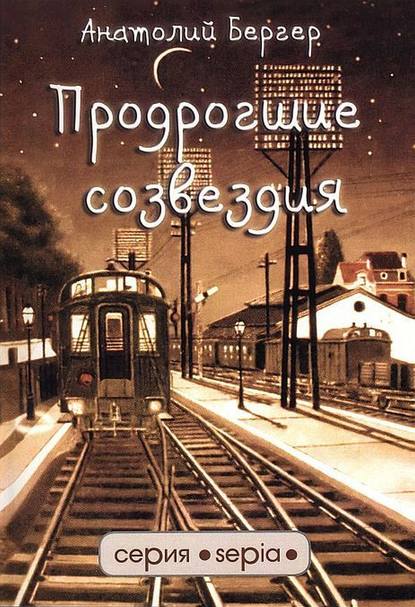 Полная версия
Полная версияПродрогшие созвездия
В сентябре опять подошли сроки страховки в Петропавловке, и я решил из Черемшанки заехать туда. В этот раз со мной была жена. Её подруга откликнулась на нашу просьбу и прислала мумиё.
Среди бела дня жёлтым осенним лесом, просторным и лёгким, мы пошли пешком в Петропавловку. Сойка, сопровождая нас, перелетала с дерева на дерево, резким криком оповещая всех вокруг. Кругом шуршало, шелестело, золотясь, шаталось в воздухе и с лёту пикировало к ногам. А мы шли, вдыхали в себя осень, Сибирь, тишину. Я показал Лене глубокую колдобину, где мы провалились весной. Наконец, открылся скотный двор, а за ним и Сашина изба.
Мы отворили калитку. Дети сразу узнали меня и бросились навстречу. Девчушка была здорова и весела. За ними показался Саша. «Приехали, а я уж думал – забыл ты». – «Да нет, помню». – «Он о вас много рассказывал», – сказала Лена. Маленькая молодая женщина, почти девочка, вышла на наш разговор. «А вот и Надя». – «Вот тебе и на, а я думала – это старшая сестра малышей», – шутливо заговорила Лена. Разговор сразу пошёл лёгкий и открытый. Мы отдали Саше мумиё, что ещё больше расположило к нам и его, и Надю. «Ну что – поросёнка или гуся?» – обратился к нам Саша. «Да жалко: не стоило бы». – «Нет, нет, всё равно заколем. Ну, Надя, ты хозяйка, что скажешь?» – «Поросёнка и курёнка», – рубнув рукой воздух, авторитетно заявила Надя. «Лови цыплёнка», – приказал мне Саша. Я двинулся к гуляющим по двору курам. Они вначале только покосились на меня, перебормотнувшись, но едва я подошёл ближе, петух скандально, по-сумасшедшему прокричав, растопыря крылья и голенасто выкинув шпористые свои ходули, трепыхаясь, ударился прочь, а куры вслед – кто куда, заходясь в кудахтанье. Я выбрал одну и пустился за ней. Но она от меня полубегом-полулётом, клювом и крыльями вперёд, крича караул, бежала сломя голову то к калитке, то к избе, то в сторону отошедших недалеко кур, которые вместе с ней, вопя, снова начали метаться направо и налево. Уже почти схватив беглянку у огорода, я не удержал её, и она снова, судорожно возопив, ринулась прочь. Саша, к тому времени приготовивший на дворе костёр и посуду и следивший за моей охотой, в которой помогал и его сынок, срезая куре углы убега, сказал мне: «Погоди, сейчас». Он вошёл в курятник, куда от греха подальше забралось несколько кур, оттуда раздался короткий вскрик, выбежали и замелькали туда-сюда куры, и вышел Саша с добычей в руках. Кура помалкивала, косясь круглым чёрным выпуклым глазом на белый свет. Подойдя к пеньку, Саша поднял одной рукой топорик с земли и без замаха коротко чикнул по куриной шее. Голова упала на землю, ткнувшись гребешком, а тушку с открытой, как трубка, шеей, из которой капала кровь, Саша оставил на пеньке. «Зови Лену, – сказал он, – Надя в магазин ушла, скоро будет». – «А бабушка где?» – спросил я. «В Тюхтятах, у тех внуков». Лена начала ощипывать куру, а Саша, взяв нож, сел на землю около бегающих поросят, похрюкивающих и роющихся вокруг. «Сколько им?» – спросил я. «Да месяца по два». – «Может, хватит цыпленка, – сказал я, – жалко как-то». – «Вот ещё, – возразил Саша, – а на что ж их кормить?» Белый, тупорылый поросёнок, тонко хрюкая, пробегал мимо, но на полдороге Сашина рука с ножом остриём вверх, как из-под земли, очутилась под ним, и нож ударил под левую переднюю ножку и тут же вынырнул из широкой ранки. «Пусть побегает, – сказал Саша, – сам упадет». Поросёнок, слабея, тяжко дыша, стал над землёй, ножки подогнулись, он ткнулся рыльцем в землю. Видеть это было страшновато. «На то и кормим, – словно бы услышал меня Саша. – Что ж с ними ещё делать?»
Он начал разделывать поросёнка. Едва Лена опустила в кастрюлю курицу, ей уже был дан поросёнок, розовый и чистый. Саша отошёл в сторону, а я наблюдал работу Лены и подавал ей всё, что она просила, в общем, был на подхвате. Все звери двора – куры, свинья с поросятами, кот Бусик, тёлка, недавно купленная, – все подошли к Лене, совались к костру, нюхали кровь и брошенные внутренности своих собратьев, а при возможности старались утащить их. Бусик уже дрался за куриные потроха с курицей, пытавшейся у него их отнять; свинья, чавкая, пожирала что-то, отхрюкиваясь от кур и мотая рылом. Одна тёлка смотрела смирно.
Подошёл Саша, поправил костёр, отогнал животных: «А ну, брысь, ишь припёрлись, не видали вас». Появилась Надя. Обед был готов, я достал водку, привезённую с собой. «Приезжайте к нам в Ленинград, – говорили мы с Леной, – там своими глазами Исаакиевский собор увидите, он не хуже Пизанской башни. Да и не падает притом», – добавили мы. «Ох, хотелось бы, так хотелось бы, – вздохнул Саша, – да больно дорога денежная». – «Может, сделаешь пару буфетов, скопишь», – сказал я. «Да нет, не хватит. Я бы пошёл к архитекторам, показал свой проект спасения башни. Видно, всю жизнь тут прожить придётся». – «А нам здесь нравится!» – воскликнул я. «И мне», – подтвердила Лена. «Это вы здесь ненадолго, а так бы Ленинград во сне видели каждую ночь». – «Я и вижу», – призналась Лена. «Вот то-то и оно. А я Пизанскую башню часто во сне вижу, вообще Италию». Надя покачала головой: «Всегда он такой». – «Хороший», – улыбнулся я.
Обед подходил к концу. Никогда в жизни я не ел такого свежего бульона, такой нежной поросятины. Уже веяло вечером, день уходил. Дети ложились спать, разбрелись по курятникам и стайкам звери, успокаиваясь после столь жестокого и сытого для них дня. Бусик давно валялся на печи, и им можно было размахивать туда-сюда, что и делал Сашин Вовка, а кот не просыпался и даже глаз не открывал. Легли спать и мы после долгих пререканий – кому на кровати: хозяева укладывали нас, а мы их, в конце концов, они настояли на своём и сами улеглись на полу.
Утром надо было уезжать. «Пишите нам, – говорили мы с Леной, – и приезжайте в Ленинград». – «Может, когда и сможем», – кивал головой Саша. Мы уехали.
Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь. От Саши и Нади писем не было, но в следующем году наша бывшая хозяйка тётя Надя, с которой мы изредка переписывались, сообщила, что Саша умер, доконал его диабет. Жена его, Надя, нам так и не написала. Единственное, что я могу сделать сейчас для Саши – рассказать о нём что запомнил.
Жаль, что не помогло ему мумиё.
1978
Стрелы огненные
(В.Ходасевич и Н.Берберова)
Не верю в красоту земнуюИ здешней правды не хочу,И ту, которую целую,Простому счастью не учу.По нежной коже человечьейМой нож проводит алый жгут:Пусть мной целованные плечиОпять крылами прорастут.27 марта 1922 г.«Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер, и там Ходасевич читал свои новые стихи («Не верю в красоту земную», «Покрова Майи потаённой», «Улика», «Странник прошёл») – стихи о любви, и Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие (не говоря уже о брате «Мише» и его дочери, Валентине Ходасевич, художнице) с нескрываемым любопытством смотрели на меня» (Нина Берберова «Курсив мой»).
Это была удивительная любовь – удивительная и для неё и для него. Она, только что отвергнувшая Гумилёва, молодая, пробующая перо, и где – среди лучших поэтов, среди страшных времён, среди «окаянных», по Бунину, дней, и он – поэт, мастер, в эти дни, в эти времена в «божьи бездны соскользнувший».
«Все слушали стихи мои» – эти страшные дни, эти тёмные годы для его поэзии вершинные, его строки сияют, как никогда. Он едва выбрался из болезни, голода, нищеты, а пожалуй, ещё и в них, как в болоте, но стихи рождаются, великие стихи России, великие стихи тех дней. И вот эта встреча… Но свела их поэзия, и под её причудливым звонким знаком жила их любовь.
«Мне запомнился вечер в понедельник 21-го ноября. Из Зубовского (Институт истории искусств – А.Б.) я пришла в Дом искусств в класс К.И.Чуковского и там, как и все, читала «по кругу» стихи». «Я пригласила Анну Андреевну, – говорила Ида (Наппельбаум, поэтесса, дочь фотохудожника, на квартире которой проходили литературные понедельники). – И я встретилa Ходасевича. Он тоже обещал прийти».
«Эта фамилия, – пишет Берберова, – мне ничего не сказала, или очень мало. Поздно ночью, когда мы шли домой, (Чуковский (Николай, сын Корнея Чуковского) – А.Б.) жил на Спасской, и нам было по пути) он говорил мне, размахивая руками: «Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за Вас! Папа похвалил сначала. А теперь – Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день!» (Ида шепнула мне, когда я уходила: «Сегодня твой день»).
Там, сидя на полу, я «по кругу» читала:
Тазы, кувшины расписныеПод тёплым краном сполосну,И волосы, ещё сырые,У дымной печки заверну.И буду девочкой весёлойХодить с заложенной косой,Ведро носить с водой тяжёлой,Мести уродливой метлой.И так далее. Так, что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр «Анно Домини»), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали «Фелициановичем», объявил, что насчёт ведра и швабры – простите, метлы – ему понравилось. Ну а если бы нет? – думала я – Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего не изменилось бы всё равно! У Ходасевича были длинные волосы, прямые, чёрные, подстриженные в скобку, и он сам читал «Лиду», «Вакха», «Элегию» в тот вечер. Про «Элегию» он сказал, что она ещё не совсем кончена. «Элегия» поразила меня. Я достала его книги «Путём зерна» и «Счастливый домик». 23-го декабря он опять был у Иды и читал «Балладу». Не я одна потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге. Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к «гиперборейцам» (Гумилёву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем – и может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, «наше время» имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, НЭП как уступка революции мещанству, в литературе – конец символизма, напор футуризма, через футуризм – напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мной на фоне всего этого, как бы целиком вписанная «в холод и мрак грядущих дней».
Итак, она встретила Поэта. Кого же встретил он? Как тут ответить? Он встретил свою последнюю любовь – вот, пожалуй, точный ответ. Но он, поэт, заранее предчувствовал всё. Вот отрывок из его письма к А.И.Ходасевич (брошенной жене):
«Офелия гибла и пела» – кто не гибнет, тот не поёт. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернёт меня. Я зову с собой – погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль её. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают». (от 3-го февраля 1922 года).
Да, он понимал всё, предчувствовал. Но что это меняло? Любовь вела своими путями. Зима 1921–1922 года зябкими созвездиями осеняла их.
«Был один вечер, ясный и звёздный, когда снег хрустел и блестел, и мы оба – Ходасевич и я – торопились мимо Михайловского театра куда-то, а в сквере почему-то устанавливали большие прожектора, в лучах которых клубилось наше дыхание, перекрещивались лучи, словно проходили сквозь нас, вдруг освещая в ночном морозном воздухе наши счастливые лица – почему счастливые? Да, уже тогда счастливые».
Берберова пишет далее: «Он (Ходасевич – А.Б.) видел меня далеко-далеко, когда поджидал мой приход, различая меня среди других на широком тротуаре Невского, или следил за мной, когда я уходила от него: поздним вечером – чёрной точкой, исчезающей среди прохожих, глубокой ночью – тающим силуэтом, ранним утром – делающей ему последний взмах рукой с угла Екатерининского канала. Несмотря на свои тридцать пять лет как он был ещё молод в тот год!». И опять «Курсив мой»: «Перемена в наших отношениях связалась для меня со встречей 1922-го года». Выразительно рассказав об этой встрече в Доме Литераторов, Берберова пишет в конце: «На рассвете он провожает меня домой с Мойки на Кирочную, и в воротах дома мы стоим несколько минут. Его лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке. И в эти секунды какая-то связь возникает между нами, с каждым часом она будет делаться всё сильней».
Это важное признание. Период благоговения, нечто от обожания гимназистки недосягаемого учителя уже позади, это уже совместность и равность чувств и переживаний. Хотя, конечно, совместность была, но равность… Может, в иные мгновения и она была, но только в иные мгновения. Он полюбил навсегда. Она полюбила сейчас. Но они этого не знали. Только могли догадываться. Вот тогда-то и появились стихи «Не верю в красоту земную», тогда-то и окружающие стали замечать что-то.
Вот свидетельства Николая Чуковского, ровесника Нины Берберовой, как и она, начинающего поэта:
«Я был так далёк от мысли, что между Ходасевичем и Ниной может быть роман, что заметил его, вероятно, до смешного поздно. Нину познакомил с Ходасевичем я, и ходила она к нему вместе со мной. И когда я кое о чём стал догадываться, я испытал неприятное чувство. То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось ещё более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог».
Далее Чуковский продолжает всячески недоумевать по этому поводу. Ему, мальчишке, в сущности, казалось диким, что не очень молодой, не слишком красивый, болезненный человек оказался любим юной красивой девушкой. Да и где ему было понять, что он знал в эти годы о странностях сердца человеческого, а женского в особенности, говоря словами Лермонтова, который, впрочем, сказал эти слова в молодости. Но то был Лермонтов. Николай Чуковский ещё и ревновал Берберову, хотя в мемуарах своих в этом не признается, что вполне простительно.
Тем ценней свидетельство очевидца: «Тайный их роман, о котором вначале знал только я, развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нём догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойче и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше. Впрочем, счастье его было не безоблачным. Он самым жалким образом боялся своей Анны Ивановны. Она, как водится, долго ничего не подозревала, и он смертельно страшился, как бы она не догадалась. В начале лета он вместе с ней и пасынком уехал куда-то на дачу, и тут ему и Нине понадобился я. Через меня шла вся их тайная переписка. Ходасевич надписывал конверт на моё имя, и я, получив письмо, нёс его, не вскрывая к Нине, на улицу Рылеева. Нинины ответы посылались в конвертах, надписанных моей рукой. В середине лета Ходасевич сбежал с дачи, явился к Нине и увёз её в какую-то глухую деревню на берегу Ладожского озера. В страхе перед Анной Ивановной он обставил этот побег так, что кроме меня ни один человек на свете не знал, где он находится. В течение полутора месяцев я служил им единственной связью с внешним миром. Свои обязанности поверенного и друга я исполнял честно и с увлечением. Они оба платили мне пылкими выражениями дружбы и благодарности. Вернувшись в город, он немедленно связался с Горьким и с помощью Горького стал поспешно хлопотать об отъезде за границу. В конце 1922 года он уехал в Берлин вместе с Ниной».
Так видели некоторые современники эту любовь. Надежда Мандельштам тоже кольнула Ходасевича в своих воспоминаниях. Поведение его по отношению к Анне Ивановне, преданно выхаживающей его, меняющей ему повязки во время заболевания фурункулёзом, любившей его по-настоящему, вызывало, конечно, протест, но что люди знают о любви, ослепляющей душу? И всегда ли она, такая любовь, в ладах с моралью и даже, увы, с человечностью? Безумство любви – это не метафора, это констатация того, что происходит. Можно сколько угодно обвинять Ходасевича, но какой в этом смысл? Да и кто вправе судить? А речь ведь идёт притом о поэте, одном из лучших русских поэтов. Что он мог поделать с собой, он, сам назвавший встречу с Ниной, хотя и шутя, катастрофой. Но банальность сентенции о доле правды в каждой шутке не отменяет, однако, и точности этой банальности. Да, катастрофа, ибо рушилось прошлое, а разрушение – всегда катастрофа, но и счастье, которое было подарено ему судьбой.
Предоставим слово Анне Ивановне, которую мы уже упоминали. Это будет не последний разговор с ней, но сейчас о том, что происходило в 1922 году. В кратких воспоминаниях Анны Ивановны рассказ об этом периоде начинается так: «В 1921 году в стенах Дома искусств появилась начинающая поэтесса Нина Берберова. Молодая, с типично армянской наружностью». Затем Анна Ивановна пишет, что друзья намекали ей, что Владя увлечён Берберовой. «Но я этому мало верила, так как за одиннадцать лет нашей совместной жизни мы ничего не скрывали друг от друга. Через месяц я вернулась из санатория днём. Влади не было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночки из-под пирожных. Когда пришёл Владя, я спросила: «С кем ты пил вчера вино?» Он сказал: «С Берберовой». С тех пор наша жизнь перевернулась. Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, и я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чём противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел её дня два-три, то кричал и плакал. И я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести её к нам для его успокоения». Далее Анна Ивановна рассказывает о том, как Ходасевич обманул её, говоря, что скоро вернётся из поездки в Москву по делам, но весточку от него она получила уже с дороги за границу, куда он уехал вместе с Берберовой. Отдадим должное благородству и высокому сердцу Анны Ивановны Чулковой. Ходасевич бросил её больную туберкулёзом (она и в санатории была туберкулёзном), без работы, без денег и с «ужасными душевными страданиями». Письмо Ходасевича с дороги начиналось так: «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею просить прощения». Что ж тут скажешь? Нечего сказать. Ходасевич и Берберова покинули Россию или вернее, совдепию. Впереди была чужбина.
Пока наши герои пересекают границу прошлого и будущего, родины и чужбины, расскажем о них до «стрел огненных», до катастрофы. Расскажем о прошлом, чтобы потом вернуться к будущему, которое неуклонно и неопровержимо вырастает каждый миг из настоящего.
Сперва о нём, о Поэте. Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 (28) мая 1886 года в Москве. Отец его был сыном польского дворянина (одной геральдической ветви с Мицкевичем), бегавшего «до лясу» в 1833 году, во время польского восстания. Дворянство у него было отнято, земли и имущество тоже. Отец Владислава мечтал о живописи, учился в Академии художеств, но его постигло разочарование, и он занялся фотографией. Между прочим, фотографировал семью Льва Толстого. Что-то воплотилось в поэзии сына – и живописной, и остро-фотографичной одновременно. Мать была дочерью известного в конце ХIХ века выкреста Я.А.Бравмана, хулившего религию отцов – иудаизм на радость черносотенцам, чьим духовным братом он отныне сделался. Но Софья Яковлевна, мать Владислава, воспитывалась в польской семье и стала католичкой, что передалось и младшему сыну, будущему поэту.
Ходасевич писал в конце жизни: «По утрам, после чая, мать уводила меня в свою комнату. Там над кроватью висел в золотой раме образ Божьей Матери Острофамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал «Отче наш», потом Богородицу, потом «Верую». Потом мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи. То было начало «Пана Тадеуша» (Нина Берберова «Памяти Ходасевича»).
Однако этот полуполяк-полуеврей стал истинно русским поэтом, чьи строки – неотъемлемая часть русской поэзии. Недаром тульская крестьянка Елена Кузина вскормила его, и ей посвящено замечательное стихотворение «Не матерью, но тульскою крестьянкой». С детства Владя любил балет и даже мечтал о карьере танцовщика, но помешало слабое здоровье. Стихи он начал сочинять рано. Так случилось, что он попал в Третью московскую гимназию, в один класс с Александром Брюсовым, братом знаменитого уже в те годы Валерия Брюсова. Тогда же подружился он с Виктором Гофманом, известным впоследствии поэтом. Так Ходасевич попал в окружение символистов, можно сказать, с младых ногтей.
Однако вернёмся к хронологии жизни Владислава Фелициановича, ибо наш предмет настолько же поэзия, насколько и жизнь поэта.
Окончив гимназию, Ходасевич поступил в Московский университет сначала на юридический, но затем, совершенно естественно, перевелся на историко-филологический. Уже тогда было ясно, что главное – поэзия. И вот – первая любовь. В 1905 году Ходасевич женится на одной из первых московских красавиц – Марине Рындиной – молодой богачке, своевольной и взбалмошной. Вот уж удивлялись люди (николаи чуковские тех дней) – некрасивый, болезненный, начинающий поэт – и красавица из красавиц, Наталья Гончарова начала ХХ века, да ведь Ходасевич в 19 лет – не Пушкин в зените славы… Но такова судьба этого удивительного человека – в него влюблялись прекрасные женщины (и Анна Ивановна Чулкова тоже ведь была хороша собой), не только слово повиновалось ему, как змея заклинателю (перефразируя строки Ахматовой о Лермонтове), но и души женские. Ей, Марине, посвящен первый сборник стихов «Молодость», ещё наивный, подражательный, от которого поэт, как и от следующего «Счастливого домика», впоследствии отказывается (а кстати, «Счастливый домик» был посвящен Анне Ивановне). И первая, и вторая любовь оказались не настоящими, как и сборники стихов, им посвященные. Поэзия и любовь у него были связаны общим кровообращением. И настоящие стихи пришли с настоящей любовью (на несколько лет раньше любви, но так ли это важно?).
С Мариной Ходасевич пробыл недолго – всего два года, уже в 1907 году она бросила его, уйдя к С.К.Маковскому, поэту и искусствоведу. Ходасевич переживал разрыв с ней тяжко, зарубка на сердце осталась навсегда. Да и жизнь была трудной – литературная подёнщина, переводы, журналистская работа.
1910–1911 годы проходят под знаком «царевны» – Е.В.Муратовой – разведённой жены автора «Образов Италии» Павла Муратова. Ей посвящены блестящие венецианские строки из второй баллады («Мне невозможно быть собой»). Но уже в конце 1911 года начинается любовь с Анной Ивановной Чулковой, младшей сестрой писателя Г.И.Чулкова. Это была любовь-дружба, что так согревает и помогает в жизни, но не всегда, видно, насыщает душу. По крайней мере, в случае Ходасевича. Пожалуй, он разлюбил уже Анну Ивановну ко времени встречи с Берберовой, а благодарность – она не заменяет любви, хотя жертвенные натуры порой способны предпочесть её любви. Но не таков был Ходасевич, да и кто из поэтов? Что-то никто не приходит на ум.
Вот письмо Г.И.Чулкова сестре – Анне Ивановне от 6-го июня 1922 года:
«Милая Нюра!
Твоё невесёлое письмо мы получили. Я очень понимаю, что у тебя есть причины для печали и мне очень тяжело сознавать это, но всё это для меня не является неожиданностью. Это можно было б предвидеть с первых же дней вашего союза, т. е. твоего и Владислава Фелициановича. Кто из вас виноват больше – не берусь судить. Но сама ты говорила, что уже несколько лет вы не живёте, как муж с женой. А если так, зачем же преувеличивать несчастье? Я убедился, что Владислав Фелицианович изрядно противоречит сам себе и уклоняется от простой правды. Я бы на твоём месте плюнул бы на всякие истерики и трезво подумал о том, как почище и складнее устроить свою жизнь…»
А вот свидетельство самой Анны Ивановны от 2 декабря 1911 года – Н.Я.Брюсовой, сестре Валерия и Александра, бывшего мужа Чулковой. Анна Ивановна пишет о Ходасевиче:
«Мы давно были очень дружны… А вот как пришла и когда пришла любовь – не знаю. Знаю, что люблю Владю очень, как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чём-то низшем, и благодаря этому всё гораздо проще и понятней… Кроме того, помогаю Владе – выписываю ему стихи для какого-то сборника… Знаешь, даже согрешила сама: написала два стихотворения, конечно, очень нескладно. Ещё новость: научилась любить небо. Это большое счастье».
А вот что писал Ходасевич в день смерти отца своей приятельнице Н.И.Петровской:
«Ныне под кровом моим обитает ещё одно существо человеческое. Если ещё не знаете, кто – дивитесь: Нюра… Милая Нина! Я – великий сплетник. Но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторяли их снова – и стало жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна быть добрая. Ну вот, со мной очень просто добры и нежны. По человечески, не по-декадентски! Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни».

