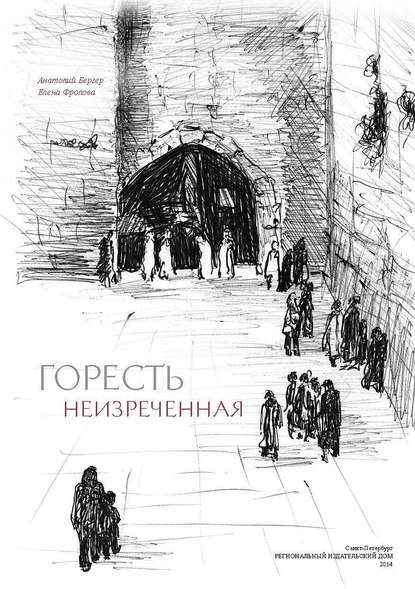 Полная версия
Полная версияГоресть неизреченная (сборник)
От возмущения я даже задохнулась. Что ждать от гэбистов? Но человек, с которым много лет знакомы, обсуждали книги, спектакли, а недавно: «Без тебя не могу».
Конечно, я взяла себя в руки. Ответила, кажется, что это такой нелепый вопрос, что не считаю нужным как-то реагировать.
Когда я вернулась на работу, сказала своему редактору Олегу Байкову, что скорее всего это конец, он медленно снял очки, опустил голову.
– Ну нет, Олег, – приходите в себя. Их я выдержала, Вас нет.
Потом я пошла в столовую со своей коллегой Ниной и рассказала ей о допросе и – только сейчас – о разговорах с Анатолием Никитиным. И Нина тоже не сдержалась, и у неё были слёзы.
А недели через две Нина поехала с комсомольцами на их слёт. И к ней подсел Анатолий Никитин и стал восхищаться тем, какая я журналистка – «пять человек были против неё и она всем дала отпор». А Нина, которая знала уже о его роли в этом издевательстве, онемела и только удивленно глядела на него.
Да, такие шли к своей цели по трупам.
После окончания института я сдала на отлично два кандидатских экзамена. Даже тогда, когда начались все эти драматические события, Владимир Александрович Сахновский уговаривал меня продолжать заниматься моей темой и сказал, что нашёл мне руководителя диссертации. Это была Лариса Ивановна Новожилова, не так давно возглавившая кафедру марксизма-ленинизма в нашем институте, пригласившая туда молодых, живых преподавателей, сама увлечённая социологией.
Ларисе Ивановне сразу понравилась моя дипломная работа, она захотела со мной работать. Но в это время по приказу Романова её забирали в райком партии. Новожилова не хотела совсем расставаться с институтом, поэтому предложила мне поступить в аспирантуру. Надежда была слабой, но всё же я попросила рекомендацию в парткоме. Они и написали, что работник я хороший, но мой муж сидит по статье 70 УК РСФР.
Лариса Ивановна пошла к ректору с этой бумагой. И он, казалось бы человек порядочный, но, как и все запуганный, сказал, что ноги моей, руки моей, головы моей не будет в его институте.
Новожилова позвала меня к себе домой. Интеллигентская квартира на Васильевском острове, старинное бюро. Она как-то пыталась смягчить удар. Советовала писать, хотя, зная мою историю, сказала, что и эту «вакансию» могут занять перемещением. Мы с Сахновским еще гадали тогда – что победит: интеллигентность Ларисы Ивановны или райком. Странно было даже задаваться таким вопросом.
С моим редактором Олегом Байковым мы уходили из нашей газеты одновременно. Были мы с ним совершенно из разных кругов. У него ПТУ, вечерний институт, членство в партии. У меня театр, поэзия. Но, несмотря на серьёзные идеологические споры, мы ценили и уважали друг друга. У нас дома на письменном столе стоит совсем простой письменный прибор, на нём выгравирована надпись – это Олег и Нина подарили мне его на день рождения 20 апреля 1969 года, через пять дней после Толиного ареста. И вот в 1973 году его брали на повышение в газету «Ленинградская правда», я же уезжала к мужу – в ссылку, в Сибирь.
Когда мы вернулись, и нужно было выступить в защиту театрального музея, я обратилась к Олегу.
– Не могу, – развёл он руками, – я в стае.
Я тут же откликнулась строчкой Мандельштама: «потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьёт»
– Завидую, – сказал Олег.
Когда мужа после возвращения никуда не брали на работу, я решилась сходить в райком к Ларисе Ивановне Новожиловой. Она поначалу даже сочувственно выслушала меня. А вскоре отказала через секретаршу.
Да, завидовать нам не приходилось ни во время ссылки, ни после. Но и тем, которые в стае, я бы не позавидовала.
В Сибири условия жизни были тяжёлыми. Мы снимали в избе у тёти Нади комнату за занавеской. Если зимой выскочишь в сени за сковородкой без варежек, металл пристанет к пальцам. С продуктами было туго. Посылали нам посылки Толины родители, иногда мои, иногда друзья. Очень было здорово, когда из Москвы подруги прислали банку топлёного масла.
Толик работал грузчиком. Когда сорвал спину, долго никуда не мог устроиться. Писал в ЦК, требовал, чтобы они выполняли свои законы. Направили работать агентом госстраха.
Мне не разрешили вести даже театральный кружок в курагинском клубе. Как ни странно, лекции от общества «Знание» читать не мешали. Я и читала – об эстетике, о красоте. Даже «Гамлета» Пастернака включала в свои выступления. Надеялась, что хоть два-три человека услышат. Кажется, и слышали. Совсем недавно, узнав наш адрес от семьи Вагнеров, которые когда-то приютили Толика и его товарища по ссылке Гришу, из Германии позвонил Бауэр. Он был директором того предприятия, где я выступала как лектор, предложил подвезти. Я познакомила его с мужем, мы бывали у них дома. Сейчас в разговоре он сказал очень важные слова: «Спасибо вам, что вы были в нашей жизни».
Денег не хватало. Я была уже членом Союза журналистов, позади два вуза – написала в Красноярск, предложила свои услуги на радио, телевидение, в газеты. Откликнулся только Дом народного творчества. Предложили мне написать книгу о народных театрах Красноярского края и сразу вызвали на режиссёрскую лабораторию в Енисейск.
Разумеется, это была удача. Возможность хоть какой-то профессиональной работы, поездки по городам и посёлкам края, встречи с творческими людьми.
В Енисейске режиссерскую лабораторию вел приехавший из Москвы преподаватель Щукинского училища Альберт Григорьевич Буров. Я поначалу помалкивала, ещё не совсем понимала своё положение в этих новых для меня условиях.
После заседания режиссёр Енисейского народного театра Володя Евстифеев повёл нас по городу, показывая все достопримечательности.
Развалины бывшего большого монастыря.
– Здесь были золотые купола, старинные иконы.
– Кто же его так ограбил? – спросила молодая режиссёрша.
– Советская власть, – ответил Владимир.
Мы пришли в музей декабристов. Музея практически нет, но стенды, фотографии. Хожу, всматриваюсь в чудные лица. Сзади голос – Альберт Григорьевич Буров:
– А Вы здесь по сходному поводу?
Сразу стало легко. А с Володей Евстифеевым мы почти подружились. Талантливый он человек. И театр у него был интересный. Его постановка «Клопа» Маяковского была самой убедительной из всех, что мне довелось видеть. Такая острая сатира, направленная не только на прошлое, но и на будущее, где мещанин Присыпкин оказывается всё-таки живым человеком среди механически действующих совершенно одинаковых существ в белых халатах.
Енисейский театр был лауреатом всесоюзного фестиваля, сейчас его направляли на смотр в Прагу. Евстифеев хотел повезти «Клопа». Когда собирали комиссию, которая должна была отсмотреть спектакль перед поездкой, Володя звонил в Дом народного творчества, просил прислать театроведа и не просто театроведа, а Фролову. Но меня не нашли (это меня-то, которая из посёлка Курагино могла выехать только по командировке этого Дома). Спектакль задробили. Да и я бы не смогла помочь тогда. Особенно лютовали школьные учителя – и девочки в мини-юбках, и двигаются, как механизмы.
Во все поездки по краю я брала с собой рюкзак – вдруг попадётся что-то съестное. Особенно удавалось отовариться в Шушенском. Снабжался посёлок лучше, всё-таки иногда туристы приезжали.
Пошла и я посмотреть, где жил вождь мирового пролетариата. Избы на улице крепкие, справные. Ленин, в отличие от моего мужа, там не работал, получал от царского правительства 2 рубля золотом (огромные по тем временам деньги). Молодая экскурсоводша с восторгом рассказывала, как ходил он на охоту.
– Приехала Надежда Константиновна Крупская. Радости не было конца. Всю ночь они проговорили о Союзе борьбы за освобождение рабочего класса.
Чтобы не рассмеяться вслух, я прикусила перчатку. А рядом с серьёзными лицами стояли молодые ребята.
И всё же, как написал Анатолий Бергер, «Сибирь вспоминать не в печаль». Эта тайга, где закинешь голову и едва различишь верхушки деревьев, эти тёмные реки, скосы гор с разноцветными глинистыми вкраплениями. Люди, с которыми мы там подружились. Валька, о которой я написала очерк, художник-самородок Вадим, Райка, горячо схватывающая всё интересное.
Сумрачный, заснеженный посёлок. Мы идём, закутываемся от холода. Но вот изба Вагнеров. Жарко натопленная печь. Девчонки бросаются навстречу. Младшая Аленька устраивается у меня на коленях. И даже Фрида оживляется и кажется уже не такой худой и измождённой.
И самое главное, в Курагино, после 4 лет разлуки, мы были вместе. Этот «устроенный» нам КГБ на два года медовый месяц и в дальнейшем помогал выдерживать новые испытания.
В Ленинград мы вернулись 7 декабря 1974 года. Было радостно и тревожно. Мужа сначала не хотели прописывать. А потом не брали никуда на работу. Пришлось опять писать в обком, настаивать на своих правах.
У меня тоже всё не складывалось. Как раз в это время в одном институте организовывалась лаборатория театральной социологии. В Ленинграде людей, которые занимались этой темой, было совсем немного. Руководитель лаборатории хотел принять меня на работу. Но то ли ему запретили, то ли сам испугался – тянул, тянул почти четыре месяца и отказал.
Тогда моя однокурсница и подруга Тамара Владиславовна Петкевич, которая работала в Доме художественной самодеятельности, поговорила с директором Дома Марком Михайловичем Гитманом, и он взял меня к себе заведующей театральным отделом. Сибирский опыт пригодился.
Странная это была должность. 120 рублей оклад, а при этом как будто большое начальство. Без моего согласия нельзя было взять на работу руководителя народного театра, а театров этих в городе было много. Сдавали спектакли самодеятельные коллективы – я должна была организовывать комиссии по приёмке. И поначалу ко мне пытались ходить с приношениями, жаловаться на своих коллег, рассказывать сплетни.
Я твердо сказала работникам отдела, что мы не начальники, а помощники, а чтобы остановить сплетников, попросила написать плакат: «Отелло погиб в результате интриги. Мы хотим жить» и молча на него показывала. Но очень скоро, когда отсеялась ненужная шелуха, стало понятно, что любительское движение семидесятых годов – это живой, сложный процесс. И работать стало по-настоящему интересно.
В Ленинграде новые театры в то время не создавались. В старых сидели давно возглавившие их режиссёры. Молодым, талантливым не было места.
Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий, кандидат наук, преподававший в нашем ЛГИТМИКе, организовал театр-клуб «Суббота» (сейчас это уже муниципальный театр) и первый спектакль «Окна, улицы, подворотни» поставил по рассказам студийцев о событиях их жизни.
В самодеятельных театрах шло то, что было под запретом в профессиональных. Владимир Бродянский ставил «В ожидании козы», Владимир Малыщицкий – «Сто братьев Бестужевых» и «Сотникова». Кажется, первая в стране попытка перенести на сцену роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – это «Подследственный из Галилеи», решённый Борисом Ротенштейном как мировоззренческий спор о смысле жизни.
Сейчас весь театральный мир и не только в России знает режиссёров Гету Яновскую и Каму Гинкаса. В ту пору у них не было работы в нашем городе. Кама иногда ездил ставить в провинцию. Гета вязала кофточки.
Я уговорила Гету возглавить самодеятельный коллектив Дома культуры имени Володарского, и скоро о маленьком театре «У синего моста» заговорили все театралы города. А поставленная Яновской очень смешная и очень-очень грустная «Красная шапочка» Шварца напоминала нам, что при всём благополучии конца героине сказки всё же пришлось побывать в брюхе волка.
При Доме художественной самодеятельности удалось организовать режиссёрскую лабораторию. Занятия в ней проводили лучшие театральные педагоги города – Аркадий Кацман, Роза Сирота. В белом зале (сейчас здесь театр «Зазеркалье») я организовала театральную гостиную, где можно было показывать и обсуждать самые спорные, самые острые спектакли.
Вести гостиную я приглашала известных в городе театральных критиков, особенно хороших полемистов. Чаще других у кормила оказывался Евгений Колмановский. А ту гостиную, о которой хочется рассказать особо, вёл мой профессор Владимир Александрович Сахновский. Это был спектакль «Исход», поставленный Евгением Ицковичем в пригородном клубе Петро-Славянки. В ту пору абсурдистская драматургия была в стране под запретом, да и отношение к религии было совсем не таким, как пытаются представить сейчас коммунисты, стоящие перед камерами телевидения со свечками. А здесь – Беккет, Теннесси Уильямс, Гоголь и все перебивки между сценами – воскрешение Лазаря.
После спектакля – наэлектризованная обстановка. Одна из моих врагинь привела на гостиную весь партком одного института. Споры доходили до каления. Владимир Александрович сказал:
– Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий уговаривал меня ходить на любительские спектакли, а я не верил ему и всё ходил в БДТ. Но представить себе такой спектакль в профессиональном театре и спокойное обсуждение его в ВТО, простите, не могу.
Но когда я попыталась также горячо включиться в спор, он отрывисто бросил:
– Молчи. Здесь шестеро оттуда.
Не знаю – шесть или не шесть, но то, что КГБ ходило по пятам, было ясно.
Марк Михайлович Гитман уже давно не работал в ЛДХСе. Был новый молодой директор Геннадий Титов (отчество забыла). Поначалу ему нравились мои затеи, а больше всего то, что была очень большая пресса – и ленинградские газеты, телевидение, и всесоюзные газеты, журналы. Но, видимо, не выдержал.
Он пришёл на гостиную, где опять показывали Беккета – был моноспектакль «Последняя лента Креппа». Назавтра он много раз вызывал меня в свой кабинет, всё высказывал свои несогласия. У меня тогда была молодая режиссёрша, помогала мне в каких-то бумажных делах. Когда я третий раз вернулась от своего директора, конечно, не особенно весёлая, она заплакала:
– Елена Александровна, берегите себя, ведь пока Вы здесь, всё можно сказать, всё посмотреть.
– Ты какая-то дура. Если я буду себя беречь, ничего нельзя будет сказать, посмотреть.
Но дни мои на этой работе были уже сочтены. Директор начал «борьбу за дисциплину», нас стали встречать на лестнице, давать расписываться в журнале. У меня чуть не через день были вечерние просмотры. После этого приходить с самого утра, выслушивать нотации.
Я поднялась на собрании:
– Я не дворник, который, получив нагоняй, ищет собаку, чтобы её ударить. После того, как мне с утра испортят настроение, я не могу встречать людей с улыбкой, работать творчески.
Мне ответили, что для меня не будет других условий, что надо искать частную контору. Я подала заявление на увольнение. И три часа ходила по городу, чтобы успокоиться, овладеть собой.
Когда я пришла домой, то оказалось, что уже многие руководители коллективов проведали – уговаривали забрать заявление, кто-то даже упрекнул, что я их бросила.
Позвонил Вадим Сергеевич Голиков. Он был раньше главным режиссёром театра Комедии, но съели. Сейчас он руководил театром университета:
– Чем я могу быть Вам полезен?
Я ответила: «Вот этим звонком».
Моя подруга Аля в ужасе от того, что теперь я совсем никуда не устроюсь, позвонила Анне Владимировне Тамарченко. Та согласилась:
– Вообще-то мало надежды, но когда это касается Ленки, всё может быть.
Анна Владимировна как-то сказала мне:
– Я знаю двух людей, которые при всех испытаниях сохранили чувство хозяев жизни – Гришенька и ты (Гришенька – это муж Анны Владимировны Григорий Евсеевич. Когда Тамарченки эмигрировали, он, хотя было ему уже более 60 лет, сумел организовать в гарвардском университете новый факультет – живой русской культуры).
Мне таких подвигов свершить не довелось. Но театровед Татьяна Жаковская – когда-то я устроила на работу её мужа, а теперь она поговорила с директором областных курсов повышения квалификации Галиной Ивановной Вавилиной, и та пригласила меня на разговор.
Галина Ивановна приехала в Ленинград из Коми-Пермяцкой республики. Тогда она даже плохо владела русским языком, но окончила институт культуры, руководила курсами, и было у неё особое чутьё на людей, которые ей нужны.
– Какого числа у Вас последний день?
– Десятого.
– Пишите заявление с одиннадцатого.
– Галина Ивановна, я физически не сумею быть у Вас одиннадцатого, надо хоть передать дела.
– Мне совершенно всё равно, когда Вы придёте сюда. Заявление пишите с одиннадцатого.
Позже я узнала, что она месяц не сдавала мои документы в отдел кадров, чтобы испытательный срок прошёл.
Работать с Галиной Ивановной Вавилиной было нелегко. Сегодня она была очень хорошей, завтра – к ней лучше не подходить. Но главный экзамен она выдержала, перед КГБ не спасовала.
Когда Толик, уже член Союза писателей, реабилитированный, автор двух книг, выступал перед библиотекарями, Галина Ивановна, в ту пору директор библиотеки дома-музея Пушкина, взяла слово:
– У меня на курсах работала Елена Александровна, в КГБ мне говорили: «Вы же актриса, войдите в их дом, узнайте о чём говорят». Я не сделала этого, не познакомилась с Анатолием Соломоновичем и только сейчас хочу пожать ему руку.
Понятно, что об этом человеке я всегда вспоминаю с благодарностью.
Когда после Галины Ивановны директором стала тогда ещё совсем молодая Люся Шикурина, из Большого Дома пришли и к ней. Но Люся только расхохоталась:
– Да что мы атомную бомбу делаем? Да у нас зарплата 120. О чём Вы говорите!
Пришлось им оставить и её в покое.
Но до того, как я пришла на Седьмую Советскую и по-настоящему познакомилась с этими людьми, было ещё десятое, последний день работы в Доме художественной самодеятельности. Общее собрание руководителей любительских театров.
Я должна была отчитаться за год, говорить об успехах и о недостатках. Закончив, я сказала:
– У меня последнее сообщение, которое я прошу принять без комментариев: с завтрашнего дня я здесь не работаю.
И быстро села на первый ряд.
Конечно, были те, кто злорадствовал, кто был доволен, но какой раздался протестующий крик, и сколько людей кинулось ко мне. Но надо мной расставил руки молодой режиссёр студенческого театра и сказал:
– Никого не пущу.
И я поняла, что на защиту поднялся мужчина. Сегодня я помню только, что зовут его Саша. Благодаря этому Саше я взяла себя в руки, и другие не увидели моей слабости.
На курсы повышения квалификации я шла, думая, что это ненадолго, что надо пока перебиться, а там поискать что-то более близкое, интересное. Но оказалось, что дело это я полюбила и до сих пор не могу с ним окончательно распрощаться.
Мне довелось заниматься образованием взрослых и при советской власти, и в новые времена. Могу сказать, что и тогда и теперь стремилась использовать имеющиеся возможности и действовать вопреки господствующей идеологии.
В конце семидесятых, в восьмидесятые годы мы могли собирать группы работников культуры Ленинградской области почти на целый месяц (144 учебных часа). И тут тяга к просветительству давала о себе знать. Мы хотели не только помогать совершенствоваться в профессии, но и шире – вовлекать в современную духовную жизнь, приобщать к культуре Ленинграда.
Кандидат философских наук Сергей Матвеевич Черкасов был в городе одним из лучших специалистов по Фрейду и его последователям. Фрейдизм в ту пору проникал во все поры культуры западного мира. Но у нас он, понятно, был запрещён. Я писала в плане что-то вроде «молодёжная политика», а сама говорила Сергею Матвеевичу: «Давайте фрейдизм и искусство» и тоже шла его слушать.
Преподавателей художественных школ мне удавалось водить в запасники Русского музея, Эрмитажа. До сих пор с гордостью и с благодарностью к Пиотровскому-старшему вспоминаю один случай. В Ленинград привезли большую выставку из американских музеев. Очереди были огромные, экскурсии не проводились. Мы постоянно работали с сотрудниками Эрмитажа, одна из них была готова провести специальную беседу для наших художников, но в толпе, но без специального разрешения – это было невозможно. Я пришла с письмом в экскурсионный отдел – просить, чтобы нас пустили на выставку на час раньше и с экскурсоводом. Мне ответили, что этого не разрешат.
– Я знаю, но для нас можно сделать исключение.
Меня отправляли от одного отдела в другой, пока я не добралась до Бориса Борисовича Пиотровского. Он встал, встречая женщину, внимательно выслушал меня, и для нас на час раньше открыли Эрмитаж со служебного входа, и была замечательная, навсегда запомнившаяся экскурсия.
У Людмилы Семёновны (Люси) Шикуриной, с которой я душа в душу работаю все эти годы и всегда говорю, что у меня начальница-приятельница, есть любимый рассказ про меня. Во дворце Меншикова открыли музей, очереди на экскурсии были на несколько месяцев вперёд, но у меня приезжала новая группа, надо было срочно. Я позвонила в экскурсионный отдел:
– А знаете что – мне надо провести группу у вас либо завтра в два часа, либо послезавтра в двенадцать.
Совершенно одуревшие от такой наглости, они сказали:
– Ну, тогда в двенадцать.
А мои коллеги всё повторяли: «а знаете что».
Для разных слушателей я читала лекции о театрах Ленинграда, о современной поэзии.
Не могу сказать, что всё было просто. Приезжали совсем необразованные люди. Как-то вели своих учеников в Эрмитаж – довели половину.
Художественным руководителям клубов мне пришлось читать о поэзии. Называю известные имена – никакой реакции. Останавливаюсь:
– Скажите, вы не знаете этих поэтов?
Молчание.
– Ладно. Спрошу по-другому – вот вы готовите на праздники композиции, включаете стихи. Как вы это делаете?
– По тематике.
– И бестрепетной рукой можете поставить Пушкина после Фирсова?
Был тогда такой так называемый поэт. И этим девочкам, действительно, в культпросвет-училище советовали использовать его в своих литмонтажах – уж очень он был советский.
А тогда я, вместо лекции, просто читала им стихи.
Назавтра одна из слушательниц подвела ко мне свою подругу, которая пропустила мою лекцию:
– Нам вчера про поэзию рассказывали. Два часа стихи читали.
Когда по плану надо было повышать квалификацию актёров областных театров, я всегда строила занятия с учётом творческой, репертуарной политики режиссёров. В театре Драмы и комедии на Литейном прошли уже тренинги по сцендвижению, сценречи, вокалу. И тогда мы продолжили просветительский курс – любимая наша преподавательница Александра Александровна Пурцеладзе еженедельно читала актерам удивительные, творческие лекции о полузапрещенных в ту пору поэтах серебряного века.
Лев Додин ставил в Малом драматическом «Дом» Фёдора Абрамова. Был он тогда ещё приглашённым режиссёром и организовать работу так, как делал впоследствии, то есть повезти исполнителей на место действия, приобщить к реальной жизни героев не мог. Я приглашала педагогов из консерватории, они приносили записи говоров, песен, а потом устроила поездку в деревню Белая Кингисеппского района, где был замечательный фольклорный коллектив бабушек.
Бабушки встретили нас в клубе – варёная картошка, солёные огурцы, топлёное молоко. Мы поставили на стол водку. И начались песни, и актёры темпераментно отплясывали со старушками. А уж когда совсем стало хорошо и по-родному, показали они нам свой спектакль – слегка осовремененный обряд сватовства. И мы ахнули – бабушку, которая исполняла роль матери невесты, Лев Абрамович сразу назвал «наш Жан Габен».
Вокруг суетилась сваха, родичи – она была неподвижна:
– Я девку ростила – не одам.
– Да купец хороший, у него такая коляска…
– Вот ты у него поработай – и катайси.
Уговорить её было невозможно. Сунули в руки что-то для благословения, отвернувшись махнула «образом». Так и не взглянула на будущего зятя.
Лев Додин и актёры пригласили бабушек на просмотр «Дома». Удалось достать машину – и приехали они в платках, в сапогах. А спектакль сдавался непросто, ещё до финала было понятно, что комиссия придираться будет.
В антракте подошла к бабушкам:
– Ну как вам? Как актёры играют?
– А чего играют – они же все деревенские, только накрашенные.
А когда кончился спектакль, и зрители устроили актёрам овацию, на сцену полезли наши старушки. И слёзы исполнителей смешались со слезами их героев.
В то же время в кабинете директора шло «судилище» – нет, театральные критики всё хвалили, но председатель комитета по культуре Ленинградской области сказал: «Я не как Огурцов, я за это отвечаю, и в этом виде спектакль не может быть выпущен». И пошёл перечень «необходимых» правок, смягчения острых мест.
В 1979 году над нашим домом снова нависла тень КГБ. В конце семидесятых уезжали в эмиграцию наши друзья. Они вывозили стихи мужа, его воспоминания, которые мы несколько лет прятали в подвале Толиного дяди в Днепропетровске. Толик договорился с поэтом Игорем Бурихиным, эмигрировавшим в Германию вместе со своей женой Леной Варгафтик, что тот подберёт книгу стихов, не включая в неё «криминал», и предложит в издательство «Третья волна». Но моя приятельница по театральному институту Ира Баскина, обосновавшаяся в Париже и вскоре в свободном мире потерявшая чёткое ощущение советской реальности, без нашего ведома отдала часть Толиных воспоминаний Владимиру Марамзину, и «Этап» был опубликован в альманахе «Эхо» под прозрачным псевдонимом Горный.

