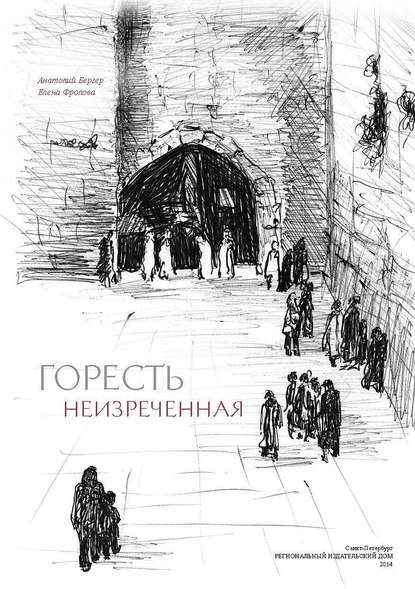 Полная версия
Полная версияГоресть неизреченная (сборник)
В зале плакали женщины. Директриса поцеловала меня, а за кулисами журналистка заставила переписывать ей стихотворение.
Потом мы с мамой поехали в город – далеко, на трамвае. А там – толпы народа. Женщины целуют парня с пустым рукавом и всех кто в военной форме. Когда мы вернулись, все поздравляли нас и говорили, что по городскому радио передали стихотворение маленькой девочки Леночки Симонович из соцгорода. Таким было моё первое выступление, как теперь говорят, в средствах массовой информации, но я его не услышала.
После войны папу направили во Львов. Город поразил меня и своими узкими улицами, и старинными зданиями, и всей совсем незнакомой мне тогда атмосферой. Ещё были маленькие частные лавочки, где мама покупала мне красивые переводные картинки. На барахолке распродавались самые удивительные вещи. Это из своего города уезжали поляки, но я только через много лет поняла, свидетельницей какой драмы мне довелось быть.
Хотя и тогда одна судьба поразила меня на всю жизнь. Её звали Виктория. Жила она в нашем доме. Польская еврейка. Не знаю, сколько ей было лет и была ли она красива, но привлекала в ней мягкость, наверное, женственность. С юных лет у Виктории был жених. Они любили друг друга, решили пожениться. Но сначала он учился, потом она училась, потом он, уже юрист, должен был начать практику. А когда уже все было подготовлено и обставлена квартира, началась война. Его убили в первый день. Вся семья Виктории погибла. Её спасла нянька, брат няньки вывез её из города на арбе с кукурузной ботвой (во Львове её называли гичкой). Немецкий патруль, проверяя телегу, тыкал в ботву штыком, но штык прошел в нескольких сантиметрах от съежившейся в ужасе девушки. И вот сейчас её изгоняли из Львова – в Польшу, где у неё не было ни одного близкого человека, и откуда Гомулка вскоре выставит всех евреев. Хотя об этом я тоже узнаю потом.
С подружками мы ходили в костёл, садились в задних рядах и слушали службу. С той поры я полюбила орган. А когда мы увидели конфирмацию – девочек в белых платьях, мальчиков в костюмчиках, а на голове – набриолиненные коки! И это после долгих серых военных зим!
Мама работала во львовском театре оперетты – не актрисой, на административной должности. Я любила приходить к ней днём, во время репетиций спектакля. У театра меня часто перехватывали поклонницы артистов, просили передать записку, цветы, подарки. Я презирала этих дур, примерно также относилась к героям-любовникам, которые и в жизни ломались, как барышни, и, обняв меня за плечи, глубоким голосом произносили: «Чудная девонька». Но сидеть в пустом зале, смотреть, как репетирует режиссёр, как улучшается от разу до разу сцена – всё это было для меня интересно и важно. Мама водила меня в наш хороший оперный театр – на балеты, на оперы. В театр драмы имени Заньковецкой я уже стала ходить и сама.
А гастролёры. В детстве мне довелось увидеть Марию Бабанову, и до сих пор Диана из «Собаки на сене» Лопе де Вега говорит мне её голосом. А Романов из киевского театра имени Леси Украинки. Тогда он гремел примерно так же, как Николай Симонов в Петербурге. Украинские великие актёры – Бучма, Ужвий. Театральные потрясения тех лет во многом определили и мои будущие предпочтения, в конечном счёте повлияв и на выбор профессии.

В школе училась я легко и на отлично. В пятом классе увлеклась математикой. Все теоремы доказывала своим способом, любимое чтение – занимательная алгебра, геометрия. Мой дедушка преподавал математику в ленинградских вузах. Но он умер от голода в блокаду. Это была первая, тяжело пережитая мною смерть. А вот гены его, наверное, сказались. Городские олимпиады по физике, математике. Я не побеждала, выигрывали мальчики, и все-таки педагоги обращали на меня внимание.
Но после семилетки меня перевели в новую, образцово-показательную школу. Классным руководителем у нас была учительница по математике Клавдия Георгиевна Страйн, старая дева, маленький носик, большие очки, и постоянное любопытство к нашим, девичьим секретам.
Я была комсоргом класса. Клавдия Георгиевна позвала меня:
– Леночка, давай ты будешь мне рассказывать о том, что происходит в классе, и мы вместе будем воспитывать девочек. – Нет, – сказала я, – я с детского сада знаю, что ябедничать неприлично. Через много-много лет я повторила эту фразу полковнику КГБ, но это было уже в другой жизни.
Надо ли объяснять, что наша классная руководительница стала моим злопамятным врагом, ждущим только удобного случая, чтобы укусить. А я возненавидела её уроки, а затем разлюбила и математику.
В десятом классе удобный случай Клавдии Георгиевне представился. В ту пору по амнистии выпускали уголовников, молодые урки быстро становились паханами стаек мальчишек. Детская преступность не только сейчас, но и тогда была страшным бичом. В нашей образцовой школе две восьмиклассницы, дочки директора института марксизма-ленинизма оказались проститутками и наводчицами в банде.
Мальчик, который был влюблён в меня, стал поперек одной из таких банд. В своей школе он создал радиоузел и выпускал радиогазету, в которой «бичевал пороки». «Объекты его критики» подкараулили его, когда он после вечера в школе проводил меня до дому, и избили так, что в больнице накладывали швы. Сказали: «пикнешь – убьём». Пикнул. Делом заинтересовался следователь. Искали выход на уголовников. Кто-то был в бегах.
К моему несчастью, эта история стала известна моей классной руководительнице. И она начала свое следствие. Приходила к нам домой, придумывала, что я встречалась сначала с кем-то из этих мальчиков, а теперь вот Игорь – и это месть. Я уверяла её, что даже не знаю никого из них. Но она не успокаивалась. Заявляла, что я должна помочь следствию. В школе разболтала всем кумушкам-учительницам. Все они пытались сунуть свой нос в мои дела.
Я хотела уйти из школы, но это был десятый класс, я шла на медаль. В другой школе мне медали было бы не видать. Я отказывалась отвечать на уроках, шла с дневником, получала двойку, садилась. Медаль и здесь уплывала от меня.
И тут, наконец, появляется человек, ради которого и стоило вспомнить всю эту историю. С девятого класса у нас литературу стала преподавать заслуженная учительница Ольга Фёдоровна Петрова. Она была большая, грузная, тяжело нависала над столом. Неудивительно, что прозвище её было «Корова». Но когда она начинала читать стихи или рассказывать о любимых произведениях – какой лёгкой, летящей становилась она. Мне она давала волю – я писала сочинения в форме диалогов, как детективные истории, как рассказы. Все мои пробы пера она отсылала в Киев, в Академию. Но отношения у нас были непростые, мы спорили, то тянулись друг к другу, то отходили. В ту пору как раз было охлаждение, но после урока, где я написала сочинение, Ольга Федоровна позвала меня в свою каморку – литературный кабинет. – Откуда такой пессимизм? Первый раз я разревелась и рассказала ей всё. – Сколько тебе времени надо, чтобы исправить все двойки? – Если мне дадут хотя бы неделю покоя, на следующей исправлю. – Хорошо, больше тебя никто не будет трогать.
И не трогали. На выпускном вечере, когда все поздравляли меня с медалью, подошла наша любимая молодая учительница истории: – Хочешь знать что сделала Ольга Федоровна? – Да. – Она встала на педсовете и сказала: «Если вы поломаете душу этой девочки, я вас не только лишу права преподавать, я вас посажу». И села. Директриса засуетилась: «Ольга Фёдоровна, ну нельзя же так». – «Я всё сказала», – буркнула, не вставая, Ольга Фёдоровна.
А медаль мне всё-таки не дали. Не могло ОБЛОНО во Львове дать медаль Елене Симонович. Когда было «дело врачей», папа потерял работу, позже устроился, но уже не на такую должность, как прежде. В один день мне позвонила моя подруга Галя: «Лена, там висят газеты, народ толпится, так ты проходи быстро, не оглядывайся». Но первая моя собственная встреча с государственным антисемитизмом – когда после десяти лет сплошных пятерок мне не дали медаль.
Два дня я лежала на кровати и пела. Мама боялась, что я сошла с ума. Но на третий поднялась и сдала документы на факультет журналистики, где был самый большой конкурс и ещё мандатная комиссия обкома. Практически непреодолимая преграда.
Как я сдавала экзамены в университет – до сих пор вижу воочию. Я приходила в белом платье с белым бантом в длинной косе, садилась на подоконник, всем всё рассказывала. Первая шла отвечать и выходила с пятёркой. Казалось, мне всё это легко. Память у меня, действительно, была тогда особенная, но только я да мои родители знали, какой ужас охватывал меня при мысли, что всё равно найдут способ не принять, завалить. Экзаменов было 9, и на седьмом – украинском языке – страшное начало свершаться. За сочинение поставили четвёрку, с четвёркой я бы уже не прошла. Но почему-то они решили показать мне моё сочинение и «ошибку». – Нет, – сказала я, – это спорный случай. Но они не стали меня слушать.
Я вышла в коридор. К моему счастью, у меня к тому времени появилась «болельщица» – профессор нашего университета. Её сын поступал вместе со мной. За него болеть было нечего, а вот девочка в белом платье с белым бантом… Я рассказала ей всё.
– Пойдём на кафедру украинского языка, спросим. На кафедре подтвердили мою правоту. Мы попросили справку. Мне бы они, конечно, не дали, но со мной была профессорша. Я со справкой вернулась на экзамен.
Итак, я стала студенткой факультета журналистики Львовского госуниверситета. На всём факультете было трое евреев.
Я так подробно рассказываю всю эту эпопею с поступлением и совсем плохо помню саму учёбу в этом своём первом вузе. Был замечательный преподаватель, который читал нам языкознание, но ему тогда, когда главным специалистом по языкознанию ещё так недавно был сам вождь народов, не удавалось защитить даже кандидатскую диссертацию. А лекции его остались в памяти. Вдобавок он читал нам те стихи, которые тогда были под гласным или негласным запретом, и которые я, конечно, тут же запоминала. Остальные же педагоги – они преподавали нам партийную и советскую печать и тому подобные темы.
Единственным своим учителем в журналистике я до сих пор считаю вконец спившегося, но талантливого человека, начинавшего в «Комсомолке», но в тут пору уже бывшего сотрудником районной газеты, где я проходила первую практику. Когда меня туда прислали (а выглядела я неприлично молодо), он сказал: «Вот направили к нам курёнка, теперь возись с ним». Но вскоре увидел, как «курёнок» едет в колхоз, привозит материал, пишет и неплохо. «Ай да курёнок», – сказал он. И стал делиться со мной секретами профессии.

От этой практики в моей памяти остался навсегда запомнившийся мне забавный эпизод. В одном колхозе была председательница, славящаяся на весь район крутым нравом. Говорили, что она за провинности звала к себе агронома и животновода, брала за шиворот, стукала их головами и говорила: «Теперь идите и не говорите, что Комарыха побила, бо смеяться будуть». Я взяла у неё интервью, но что-то надо было перепроверить. Через все помехи связи дозваниваюсь, называю её по имени-отчеству. Мне отвечает мужской голос: «То я». «Да нет, – говорю я, – мне Екатерину Петровну» – «Так то я, я ж тэбэ признала, пигалица».
Вот такой пигалицей я и кончила институт. Но писать и печататься я стала со второго курса. И когда, приехав в Ленинград, принесла знаменитой в ту пору редакторше телевидения Бэтти Шварц свой сценарий, она, узнав, что я поступаю ещё учиться на театроведческий факультет нашего ЛГИТМИКа, удивилась: «Зачем? Вы же совершенно профессиональный журналист».
Такая оценка такого человека мне была, естественно, приятна, но сама я чувствовала, что в своём первом вузе нужных мне знаний недополучила. И мой театроведческий стал главным институтом в моей жизни.
Но сначала несколько слов о том, как я решила попасть в Ленинград. На факультете журналистики я поначалу тоже была отличницей, но постепенно в зачётке стали появляться четвёрки. Когда один сотрудник молодёжной львовской газеты, где я уже печаталась, пришёл просить направить меня к ним на практику, чтобы я могла заменить ушедших в отпуск, ему сказали: «Евреи всегда норовят остаться в городе, но мы их не оставим». И не оставили. Послали в самый глухой район, где я, кстати, никому не была нужна. Я не поехала, и на моей журналистской карьере во Львове можно было поставить крест.
Из Ленинграда в эвакуацию увезли меня маленькую, но лет в 14 мама взяла меня в свой город месяца на два. Я обошла все музеи, без конца бродила по Эрмитажу, на всю жизнь полюбила Рембрандта и, вернувшись, стала говорить всем подругам, что жить можно только в одном городе.
Вот сюда я и рванула из хорошей дружной семьи, из обеспеченной жизни, из огромной квартиры – одна, жить в Ленинграде, ходить по его улицам, учиться, получать, как я тогда для себя определила, комплексное гуманитарное образование, работать.
Как это удалось – особая история. И все-таки я ассистент режиссёра на киностудии Леннаучфильм и студентка театроведческого факультета Ленинградского театрального института.
Из киностудии я через года полтора ушла, поняв, что это не моё. А вот институт и время. Как совпало! Легендарный БДТ, потом «Современник», «Таганка». Начало шестидесятых. Оттепель. Наши педагоги, наконец-то смогли начать говорить. И это была школа профессии, школа жизни.
Анна Владимировна Тамарченко. Да, конечно, и она к тому времени не вырвалась ещё из пут совковости. Высоко ставила эстетику «молодого Маркса», с одобрением говорила о движении интеллигенции Прибалтики – лучшие в партию (и меня тогда почти подтолкнула к этому – счастье, что почти), и все-таки для нас то, что она говорила, как оценивала спектакли, книги, которые мы читали, стихи, которыми зачитывались – всё это было ново, свежо. Это была ещё незнакомая нам свобода.
Анна Владимировна пережила на опыте своей семьи борьбу с «космополитизмом». Муж её Григорий Евсеевич Тамарченко, тоже профессор-филолог, еврей. Даже в шестидесятых-семидесятых годах у него не было работы в Ленинграде. Преподавал в Новгороде, мотался туда-сюда.
С этими людьми мы подружились на всю жизнь. Я говорю мы, потому что позже, когда в моей жизни появился Толя, они оценили и полюбили его стихи, мы часто бывали в этом доме, читали, разговаривали. До сих пор по разным поводам вспоминаем слова Анны Владимировны: «порядочность неделима».
Ну а в те студенческие годы были споры, разговоры, формирование мировоззрения, открытие нового.

Как сейчас помню – наш курс собирался очень часто. После спектаклей не расходились, шли к кому-то домой, пили за Брехта томатный сок, бывало, что на столе 10 пирожков, бутылка вина – и вся ночь разговоров. Этот раз мы встречались в квартире на Средней рогатке, и Анна Владимировна и Григорий Евсеевич приехали к нам от Аларчина моста на такси, чтобы дать нам послушать записанные на магнитофон первые песни Высоцкого. Потом также был Галич. Окуджаву мы и сами уже знали.
На наш курс Тамару Владиславовну Петкевич тоже привела Тамарченко. Отца Тамары арестовали и расстреляли в 37-м, её посадили в 43-м. После лагеря, жизни без всяких прав, когда 2 вуза остались незаконченными, когда не было профессии, Тамара Владиславовна в 40 лет поступила на театроведческий факультет, на другой курс, а Анна Владимировна, уже полюбившая нас, уговорила Тамару сдать экстерном и перевестись к нам. С тех пор мы тоже всегда вместе, и на первый допрос, когда арестовали моего мужа, она провожала меня до Литейного, 4. Но я опять забегаю вперёд.
После Тамарченко мастером нашего курса стал Владимир Александрович Сахновский-Панкеев. Блестящий рассказчик, яркий полемист. Как он умел издеваться над ложной патетикой, над желанием прежде всего показать себя, а уж только потом спектакль, о котором шла речь.
Сам писал жёстко, но не жестоко. Театр, актеров любил. Был из этой породы. Не рассказывал, а проигрывал нам те фильмы, которые мог тогда посмотреть в Доме кино. Школа его была неоценима.
Он стал моим руководителем диплома. В это время вышел фильм об Айболите с Роланом Быковым. И Сахновский, внешне похожий на героя этой чудной комедии, остро, безжалостно громил меня за любую неточность под песню «Мы акулу-каракулу каблуком», а потом говорил – какой хороший диплом я написала, как нужно продолжать работу и делать на эту тему диссертацию. И я действительно получила за диплом «отлично с отличием».
Тема моего диплома была «Театр Мейерхольда и зритель 20-х годов двадцатого столетия». В ту пору ещё мало писали о Мейерхольде, его имя совсем недавно было под запретом. Я работала в архивах в Москве, накопала много интересного материала. Казалось, открывается новая дорога. Но…
В институте мы учились заочно – 6 лет. Кстати, однажды, когда почувствовали, что скоро конец и что мы совсем не хотим расставаться, заявили, что после шестого курса у нас будет ещё шестой-а, и вот это название «шестой-а» навсегда сохранилось и у нас, и в памяти нашего театроведческого факультета. До сих пор каждый год 19 марта – традиционный сбор соучеников.

Но кроме института, театра, наших споров-разговоров, была ещё другая жизнь. Я работала в многотиражной газете судостроительного завода имени Жданова. Поначалу я думала, что если есть ад, он выглядит так, как сборочный цех – сполохи сварки, стук отбойных молотков и на стропилах – после обеденного перерыва – молодые подвыпившие рабочие в грязных с подпалинами ватниках.
Нет, конечно, там были яркие, интересные люди. Рабочие, у которых и шов чистый, ровный и одежда без подпалин. Специалисты-корабелы, живо относящиеся к делу. Я вела ЛИТО, и через много лет женщина, кончившая потом литинститут, говорила, как тепло вспоминала творческую атмосферу нашего объединения. Но условия работы. Но обстановка. Но дикая система хозяйствования – когда всё «сдавалось» к праздникам, и комиссии, чтобы она приняла недоделанную работу, устраивали грандиозные банкеты, а потом уже в плохих условиях шла доделка-доработка. А несуны… Купили за валюту в Финляндии цех. Его надо было сразу монтировать, но площадка, как всегда, не готова, а когда пришла пора устанавливать эти конструкции, ставить было почти нечего – по гаечкам разнесли, по блестящим деталям.
Я печаталась много в газетах и города, и всесоюзных, в театральных журналах. На радио ежемесячно шла моя часовая передача. Но когда милые редакторы радио захотели взять меня на освободившееся место, то сразу было заявлено, что вакансию закрыли перемещением. Я не стала спрашивать кого куда «переместили», пятый пункт продолжал быть пятым пунктом, а потом и вообще все двери передо мной закрылись.
Через год после переезда в Ленинград я вышла замуж за Александра Фролова. Мы жили вместе с его мамой в отдельной квартире на Невском. И всё было как будто хорошо, но… Когда мы только стали встречаться с Сашей, я понимала, что у него нет определённых духовных предпочтений, и думала – вот чистый лист, я вовлеку его в свою жизнь, свои интересы. Наивные мысли. Стена непонимания постепенно вырастала между нами. И в один день, чтобы не объясняться, потому что мне даже не в чем было его упрекнуть, я привела подругу, собрала небольшую сумку – зубную щетку, кофточку, что-то из белья, 5 рублей денег. С тем я и ушла навсегда из этого дома в свою новую жизнь, где пришлось снимать комнату, жить на рубль в день, впрочем, по молодости меня это не слишком угнетало.
30 апреля 1965 года моя подруга Матильда, приятель Эмиль и я шли по Невскому и обсуждали, как будем праздновать 1 мая в маленькой компании у друга Эмиля (мы тогда отмечали все праздники).
– Все надоели. Позови кого-нибудь нового.
Эмиль открыл записную книжку:
– Вот есть интеллектуал.
– Надоело.
– Вот оригинал.
– Хлопотно.
– Вот поэт.
– Поэт – это интересно.
И назавтра на станции Метро «Чернышевская» меня ждали Матильда, Эмиль и высокий худощавый молодой человек в болоньевом плаще и соломенной шляпе.
Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. И ссорились, и мирились, и отстаивали свою независимость. И бедность, и неустройства. Но с 1 мая 1965 года мы вместе. И каждый год вдвоём отмечаем день нашего знакомства.
Поженились мы с Анатолием Бергером 16 января 1969 года. А 15 апреля этого же года он был арестован КГБ и за свои собственные произведения осуждён по 70 статье УК РСФСР на 4 года лагеря и 2 ссылки.
Когда меня допрашивали следователи в Большом доме и я, объясняя, почему Толик написал то или иное стихотворение, чем вызвана та или иная оценка, сказала:
– Мы жили одной жизнью.
– Да, конечно, семья, – согласился следователь.
– Не только это, – сказала я, прекрасно понимая, что усугубляю свою «вину», – мы жили вместе духовно.
Шестидесятые годы и для меня были годами формирования мировоззрения. И наша встреча с Толиком, его поэтическая одарённость, его глубокая образованность (я всегда говорила, что у меня было три вуза – два, которые я сама окончила, а третий – мой муж), его знание истории страны и древней истории, его подход к прошлому не как к руинам, а как к живой жизни людей – всё это помогало и моему созреванию.
У Толи в его малюсенькой комнате и до нашей свадьбы и после по пятницам собирались друзья. Мы говорили о самом важном. Толик читал новые стихи. Шли споры, обсуждения.
Потом, на допросах меня спрашивали об этих пятницах, но я твёрдо решила, что разговоры (особенно если участников было всего 3 – Андрей Бабушкин, Толик, я), подтверждать не буду. И хотя могла бы себе это поставить в заслугу, всё равно понимаю, что на следствии не имела возможности существенно помочь мужу – всё было предрешено. Мне оставалось только ждать его – ездить на свидания, а потом вместе с ним отбывать ссылку в Сибири.
В этой книге в моих воспоминаниях «По ту сторону колючей проволоки» есть рассказ о том, как нависла надо мной угроза потери работы после осуждения мужа, но тогда, когда я писала это, я сознательно из своего рода «чистоплюйства» упустила одну подробность. Сейчас же мне кажется это неправильным, вся история полностью ещё больше может сказать о времени, о тех, кто делал свою карьеру в ту пору через комсомол, через партию.
Итак, комнатка редакции, где я работала, была напротив парткома завода и рядом с комитетом комсомола. И комсомольцы, когда организовывали разные поездки, брали меня обычно с собой.
Был в этом комитете Анатолий Никитин. Высокий, симпатичный парень. В отличие от своих сотоварищей он читал то, что особенно обсуждалось. Когда ездили куда-то, мы с Никитиным часто говорили о книгах, театрах.
Потом он ушел руководить каким-то цехом, а затем, когда уже Толика арестовали и шло следствие, вернулся в партком. Это был проверенный карьерный путь. И Никитин проходил его по всем их правилам: принял официальный тон, стал всем выкать.
Естественно, в моей ситуации меня это абсолютно не интересовало. Но как-то он подошел ко мне и попросил задержаться после конца работы. По положению, он был моим начальником. Я осталась. И началось какое-то дурацкое объяснение в любви: – Я все время о тебе думаю. Я без тебя не могу. Можем мы хотя бы сходить в кино? – Нет, – сказала я. – Почему? – Потому что ты дурак. – Дурак? – Конечно. Ходишь напыженный, со всеми на вы. – Но я же молод ещё, мне надо завоевывать авторитет. – Вот и завоевывай.
Прошло немного времени. Приговор уже позади. И на завод нагрянули гэбисты по мою душу. Позвали в партком. Два немолодых парткомовца, Анатолий Никитин и два гэбиста.
Терять мне было нечего. Если бы меня уволили, другой работы мне бы не найти. Поэтому я и билась, как могла.
Когда гэбисты стали читать наиболее резкие Толины стихи, чтобы показать, чему я потворствовала, сказала, что за распространение их судят по статье 70, и если они пойдут «в люди», не ищите источников их обнародования.
Когда пригрозили увольнением, ответила, что готова, только если мне дадут жилье в Большом доме за казённый счёт.
Когда объявили, что я соучастница – возразила: по моему поводу не было принято частного определения и за такие обвинения я сама могу подать в суд.
Парткомовцы старые всё время молчали. Думаю, им было неудобно присутствовать при том, как терзают сотрудницу их редакции. Но тут заговорил Анатолий Никитин.
– Лена, ну вот если Вы идёте и видите, что кого-то убивают и не вмешаетесь, формально Вас не могут обвинить в соучастии, но по существу…

