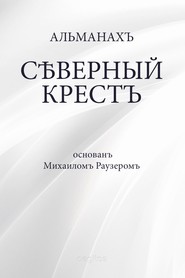 Полная версия
Полная версияСеверный крест
– Природа – обманъ и слѣпота. Ей, ей обязаны мы однимъ убожествомъ: нескончаемымъ позоромъ именемъ плоть и позоромъ казалось бы инымъ – именемъ жизнь. О убогіе предѣлы убогаго естества! Каждое живое существо борется за себя, почитая себя средоточіемъ міра; борется оно за мѣсто подъ солнцемъ, стремится забраться повыше, чтобы ничто не мѣшало солнцу, оку бога, созерцать побѣдившаго. Казалось бы, оно гордо, но то гордость мнимая, ибо борется существо живое не за Я, но за Себь. Слѣпцы, порожденные слѣпцомъ! Они стремятся быть первыми, но на дѣлѣ – послѣдніе; я же былъ, и есть, и буду – Послѣдній; а потому и Первый. Цѣльность природы – въ нулліонахъ дробностей, отчужденностей: таковъ порядокъ міра дольняго. Поистинѣ: природа – всеподавляющая, равнодушная, слѣпая, жестокая баба, вмѣстѣ съ тѣмъ и себя рождающій и себя же пожирающій змій. Не змій, а Матерь, ужасающе-живая; Судьба же много старѣе: она – карга, а сія – матерь рождающая и убивающая: мчащая зыблемые въ зыбь года, вѣка: по кругу.
– Ты сказываешь о ея слѣпотѣ, но въ чёмъ обманъ ея?
– Природа обманчива: поглядишь на зори да закаты рдяные иль на Ночи тишь – и думаешь: се, пріидетъ Она; Она же, Дѣва, нейдетъ, нейдетъ, ибо трудно ей низвергаться въ нижераспростертую природу; ждешь Луча – но нѣтъ Луча, нѣтъ нити путеводной: была и нѣтъ. Поистинѣ: природа – лишь чара и уловка божества слѣпого. Но она, поистинѣ, лучшее изъ его твореній, величайшее, работающее какъ ничто, созданное и могущее быть созданнымъ человѣкомъ, всемощная, великая въ своихъ силѣ и чарѣ. Поистинѣ: проще отвести ударъ копья или меча, нежели нѣжные твои поцѣлуи, о природа! Не укротить тебя, о неукротимая! Да, она плѣняетъ душу безмѣрно, и тѣни ея воскресаютъ въ сердцѣ, когда мы не зримъ сіянье ея. Но дѣло состоитъ въ томъ, чтобы освободиться отъ погубляющаго ея плѣна. Прочь отъ естества! Прочь отъ природы! О, зло клубится всюду, всюду, и Смерть чернѣетъ! Ибо природа – лишь одѣянье создавшаго, ризы его, пропахшія смраднымъ душкомъ его.
– Быть можетъ, ты и правъ, но нынѣ думно мнѣ: сыны человѣческіе съ присными отродясь были чѣмъ-то однимъ, а Природа, милостиво принявшая ихъ въ лонѣ своемъ, – словно инымъ, вовсе инымъ: отчимъ… Быть, можетъ, и ты – часть – пусть и наилучшая – природы.
М. горько посмотрѣлъ на Акеро:
– То обманъ, коварнѣйшій обманъ! Она – здѣшнее, рядящееся въ рясы нездѣшняго, созданная мнимо-нездѣшнимъ, дабы здѣшнее оставалося – милостью сна и слѣпоты – здѣшнимъ, она – мѣрный, нагло-лѣнивый бросокъ игральныхъ костей создавшаго; катятся кости игральныя, а живые рождаются и погибаютъ: своею мѣрностью кости – череда рожденій и смертей – успокаиваютъ создавшаго, а превеликимъ своимъ разнообразіемъ услаждаютъ взоръ его.
– Отчего ты такъ думаешь?
– Дѣва отверзла мнѣ очи. Безъ Нея духъ мой не былъ бы рожденъ. Она зажгла искру и родила духъ мой, и былъ я тѣмъ пробужденъ, о дорогой, но оскверненный міромъ другъ.
– «…и наставила на пути неложныя»: я сіе уже слышалъ отъ тебя. Въ ней ты нашелъ премудрость и разумъ высшій. Но взгляни въ лицо Истины: кто вѣдаетъ: быть можетъ, природа силою насъ (и тебя въ первую очередь) возжелала быть впервые понятою, познанною? И именно ты – пробный ея камень въ дѣлѣ самопознанія? Кѣмъ бы она могла быть познана, ежель не вершиною творенія?
– Но тогда слѣдовало бы признать, что она оторвалась отъ путъ создавшаго! Возможно ли сіе? Не слишкомъ ли она мѣрна для сего? Естественное, природное – то, что дается, а не создается, и дается, за-дается не нами.
– Быть можетъ, она прорвала свою заданность, когда творила тебя. Быть можетъ, она только того и желаетъ въ высшихъ своихъ чаяніяхъ, дабы выйти за мѣрность, согласно которой она существуетъ, а для того быть сперва познанною? Природа, дотолѣ слѣпая – нами – обрѣтаетъ глаза. Не должно её ни преодолѣвать (одолѣть её не только не должно, но и попросту невозможно), ни того болѣ низвергать; и молитъ она объ очахъ, алча быть прозрѣвшей.
– Я творилъ свое Я – не она, не она. Я не ея орудіе. А познающій не есть ли орудіе создавшаго? Можетъ быть и такъ, что не природа, но создавшій, какъ мы вѣдаемъ отъ высокочтимой мною Дѣвы, слѣпой, возжелалъ прозрѣть, что означаетъ: освѣтить силою лучшихъ изъ рожденныхъ твореніе свое? Признаюсь тебѣ: если и страшусь я чего, то лишь чаръ природы, но еще болѣе – стать очами создавшаго. Но природа словно дѣва отдается мнѣ, когда я тщусь её познать; не въ томъ ли тонкій блудъ ея и опаснѣйшее коварство? Познаніе – ты не правъ – не есть орудіе противъ чаръ ея.
– Ты вѣщаешь о Я, но въ наиглавнѣйшемъ всецѣло довѣрился ты Дѣвѣ, увѣровалъ въ словеса ея, подпалъ подъ ея чары. Власть ея возросла въ сердцѣ твоемъ безпредѣльно, безмѣрно: сіе я зрю. Быть можетъ, сказанное ею – зори ложныя. Быть можетъ, слова Дѣвы – тонкое коварство, и блудъ души, и обольщеніе, и прельщеніе сердца. Быть можетъ, Дѣва зла, и ею цѣлился въ сердце твое одинъ изъ злыхъ боговъ? «Не увела ли Дѣва тебя по стезямъ ложнымъ»? – вотъ о чемъ слѣдуетъ думать: обоимъ! Тебѣ бы стоило, быть можетъ, бунтовать противу Дѣвы: стала она твоею Судьбою, ибо свою Судьбу ты оттолѣ потерялъ. Прости за рѣзкія слова, мой дорогой другъ, но я лишь ясности желаю. Я, однако, признаю, что милостью Дѣвы претворился ты въ то, кѣмъ сталъ: въ Огнь ярколучистый, молнійно-лазурный и багрянопылающій, что ты – дваждырожденный оттолѣ; и что вѣсь родъ людской есть застывшее, окаменѣло-сонное, едино-цѣльное существо, не обрѣтшее Я, о Пламень, вечносіяющій, вечнопереливающійся и вечностановящійся.
М. и Акеро избѣгали смотрѣть другъ на друга. Акеро подумалось: «Когда духъ поддается страстямъ борьбы за правое дѣло, онъ пропитывается ненавистью. Такой вотъ прыжокъ духа, измѣнившаго Духу». М. молчалъ; злобнымъ было лице его, но позднѣе онъ добавилъ:
– …не только Судьбою, но и звѣздою путеводною, лучомъ вонзившая духъ, раскаленный и бѣлый, въ сердце мое и потому подвигнувшая меня на свои стези. Кореннымъ измѣненьямъ своего бытія я обязанъ не Ею вызваннымъ потрясеніямъ, но нескудѣющей благодати, витающей вкругъ Ея, влачащейся за Нею: какъ шлейфъ; Она и сама – благодать воплощенная. Общество Ея входитъ стрѣлою: нельзя безнаказанно съ Нею общаться; бездонность – въ очахъ Ея, бездонность – въ Ея мысляхъ; претворяешься и самъ въ бездонное – Ею. Она – безмiрная купина въ пустынѣ: палимая міромъ, Она – свѣтозарный источникъ лазурныхъ водъ; Она – сѣверное сіяніе, далекое, какъ звѣзда, желанное, какъ вода въ пустынѣ. Бѣлыя словеса Ея – священныя выси, неложныя, всечистыя. Она – благая вѣсть, она – вѣянье бездоннаго, она – звѣзда утренняя. И свѣтъ Ея никогда не перестанетъ! Никогда! До Нея былъ я слѣпымъ, не вѣдающимъ о слѣпотѣ своей; и се – прозрѣлъ, и узрѣлъ нищету свою, и претворился въ Огнь: милостью Дѣвы. До Нея былъ я спящимъ; и се – пробудился и возсталъ: навѣки. До Нея…И всё же мысли – единое, къ чему есть довѣріе. Мои ли онѣ, мой ли онѣ плодъ, или нѣчто Отцомъ ниспосланное, но онѣ выше міра и выше создавшаго: въ томъ увѣренъ я.
– Природа покамѣстъ не раскрываетъ свои тайны. Кто вѣдаетъ, чего она желаетъ? Быть можетъ, быть познанной: нами; быть можетъ, претворить насъ въ орловъ, одиноко кружащихъ въ неземныхъ вышинахъ, дабы стремглавъ низвергнуться – камнемъ, – забравъ съ собою жертвы многія, – словомъ родиться, выпростаться изъ лона ея. И, стало быть, критяне не выполняютъ въ силу слѣпоты своей ея заданія, ибо вовсе даже и не выходятъ изъ лона ея, а ежели и выходятъ, то недалеко и ненадолго и вскорѣ отступаютъ во страхѣ: въ материнскую утробу. А она желаетъ, чтобы мы вырвались изъ нея и пришли къ ней: взрослыми, – какъ сынъ приходитъ къ старой матери, дабы ухаживать за нею. Ты же, хотя и исшелъ изъ лона ея, не застрявши въ нёмъ, какъ всѣ прочіе, но застрялъ: въ природоборчестве. Я потому это сказалъ, что вѣдь ты самъ признался, что до встрѣчи съ Нею признавалъ: въ природѣ – дыханье существъ премірныхъ.
– Премірныхъ? – уставившись вопросительнымъ знакомъ, вопросилъ М.
– Богинь.
– То-то и оно, что богинь, – разочарованно отвѣтилъ М.
– Милый юный другъ, мѣрность природы – вздохъ и выдохъ богинь. Надобно еще имѣть въ себѣ кое- что отъ богинь и отъ Матери-Земли, дабы сіе узрѣть. Не слѣпъ ли ты, М., когда уста твои порицаютъ прекраснѣйшее изъ созданій «дольняго міра» вмѣсто того, чтобы благословлять его?! – не глядя на М. спрашивалъ Акеро.
– Надобно еще имѣть въ себѣ Солнце, Луну и звѣзды (словомъ – вѣсь небосводъ, всю твердь небесную), дабы зрѣть природу: покорною Судьбѣ, какъ ничто иное, распростертою во прахѣ, ибо сама она прахъ и дуновеніе, дыханіе создавшаго, быть можетъ, и ритмъ сердца его. Но нынѣ коса нашла на камень: его ритмъ сердца натолкнулся на мое сердцебіеніе. А я вовсе не изъ тѣхъ мудрецовъ, что тщетно тщатся разгадать его сны, будучи и сами – его снами. Знаешь ли, я ему какъ въ горлѣ кость. А на Критѣ всё это – вторьемъ отзывается: возстаніями, смѣнами царскихъ династій, страданіями, смертями, пожарами и разрушеніями. Видишь ли, чрезъ высшихъ людей, чадъ свѣта, изливаются свѣты горніе, тамошніе; изъ тебя изливается то тамошнее, то мѣстное. Нынѣ же въ тебѣ говоритъ невмѣняемость и заданность создавшаго – ты словно влилъ воду мутную въ воду Жизни; ты замутилъ источникъ; и сіе можетъ вызывать только отвращеніе у меня, вмѣстѣ съ тѣмъ всегда есть надежды на вмѣняемое, на живое, къ тому же оно не менѣе часто себя являетъ, – говорилъ М. и чуть погодя добавилъ: – Поскольку я цѣню высшее въ людяхъ, то твои слова способны повліять лишь на мое отношеніе къ тебѣ какъ къ Личности, но они врядъ ли могутъ помѣнять мое взаимоотношеніе съ моими святынями, мое міровоззрѣніе, мои убѣжденія.
– А быть можетъ, надобно и самимъ стать, какъ природа: ради ея познанія.
– Нѣтъ! Она мудра, но несвободна; а ты не мудръ нынче, но свободенъ, ибо ты при мнѣ, – говорилъ М.
– Я люблю бытіе подлинное, ибо въ нёмъ и просвѣчиваетъ намъ Вѣчность, но не мечты и предположенія, выдаваемыя, при томъ, за знаніе, о юный гордецъ. Мы, однако, сходимся въ томъ, что природа есть откровеніе тѣхъ или иныхъ боговъ.
– Но расходимся въ толкованіи: какихъ именно боговъ.
– Да, откровеніе и богоявленіе. Нѣтъ сомнѣній: боги – въ природѣ; и природа – въ нихъ.
Безмѣрное и немѣрное изливало себя чрезъ М., снова претворившагося въ пламень нездѣшній и изрекшаго:
– Нѣтъ: никогда земля не возможетъ познать небеса; и, хотя всегда были они – на землѣ – побеждаемы землею, побѣдитъ ли она меня?
– Я предостерегаю тебя: не падаешь ли ты въ бездну?
– Или возношусь ввысь.
– Всё одно: внизу ли не то, что наверху?
– Духъ земли никогда не устоитъ предъ духомъ небесъ! И Слово никогда, никогда не станетъ плотью! Легче міру стать духомъ, нежели Слову – плотью! Никогда! Довольно! – казалось бы, глядя на небеса, но скорѣе глядя глубоко вовнутрь себя, вскричалъ М.
– Ты зришь въ небо, и небо зритъ тобою. Но ты не видишь земли, и земля не видитъ тебя, – тихо добавилъ Акеро, не глядя на М. Акеро подумалось: «Можетъ статься, его Я не даетъ узрѣть очевиднаго. Кто изъ насъ узрѣвшій: онъ или я? Я мыслю целокупно – всѣмъ тѣломъ, М. – только головою. Но мы оба глаголемъ то, что видимъ; мы не лукавимъ. Но, когда говорю о природѣ, я говорю ей сообразно, ея языкомъ, а онъ говоритъ языкомъ иноприроднымъ, ей не сообразнымъ. Видимо, тысячелѣтія должны пройти, дабы выявить побѣдителя, ежели его вообще, возможно, выявить». И сказалъ Акеро:
– И всё же, и всё же: будь ты свободнымъ въ большей мѣрѣ, тяготило бы тебя земное? Ты бы парилъ надъ нимъ, а не стремилъ бы себя къ неосуществимому. Ибо земное не душило бы тебя и не рѣзало бы крыльевъ, ты обрѣлъ бы легкость небывалую. Только божество способно узрѣть потаенныя тайны ея, ибо и она есть божество; но чрезъ созерцаніе красы восходишь къ божеству, стяжая лучистыя его вѣянія, одаривающія насъ лазурью.
– Дорогой Акеро, вовсе не природа и не краса здѣшняя – обѣ – лишь чара злоковарнаго творца – неволитъ разумъ мой, и объ иномъ я слагаю думы, – помолчавъ, отвѣчалъ М. – Всё, мною чаемое и мною дѣемое, есть не мои чаянія и не мои дѣянія, но силъ иныхъ, для коихъ сердце и глава мои – поле брани. Мнѣ бы понять: гдѣ и когда Я есмь Я; можетъ ли быть Я внѣ силъ, внѣшнихъ этому Я, когда Я всепобѣдно простираетъ себя, и всё не то чтобы становится сроднымъ этому Я, но пребываетъ какъ бы подъ крыломъ его? Хочетъ ли Неизглаголанный быть Изглаголаннымъ, Непознанный – Познаннымъ? Положимъ, я нашелъ своего Творца, милостью Коего есмь; быть можетъ, егда сплю – Онъ забываетъ обо мнѣ; и лишь только вспомнитъ – и снова есмь. Кто вѣдаетъ? Но чего хочетъ Онъ отъ меня?
М. добавилъ послѣ паузы:
– Что природа: человѣкъ не менѣе мѣренъ; и даже человѣкъ духа имѣетъ еще отъ плоти идущую мѣрность и заданность, которыя въ мѣрѣ полной и я прорвать не силенъ.
– Не является ли твоя горняя пламенность – природою?
– Ежели она была бы природою, то отчего лишь у меня она такова? – съ улыбкою отвѣтствовалъ М.; послѣ же добавилъ: – Быть можетъ, и не моя заслуга: въ неуязвимости для ловушекъ и козней Аримана, ибо то, быть можетъ, не моя неуязвимость, но ежемгновенная Воля Иного! Иного, коему стоитъ забыть обо мнѣ – на мигъ – и нѣтъ меня! Быть можетъ, иными словами, моя сила – вовсе не моя: Его. А всё, что Онъ желаетъ, сводится къ одному: чтобы мы сами себя возогнали до сознаванія, что лучшее въ насъ – не наше, что не отъ міра оно сего, но отъ міра тамошняго. Мое тѣло не Я: Я – Свобода безграничная, тѣло же – ограничено, Я – сверхъ мѣры мощно, тѣло же – немощно. Оно жительствуетъ само, по своимъ законамъ, не волею моего Я; и жительствуетъ, отбывая службу свою точнѣе приливовъ и отливовъ морскихъ, точнѣе дуновеній вѣтра безпорядочныхъ, точнѣе заката и восхода Солнца… Точно-размѣренно, ежемгновенно-творимо жительствуетъ оно, яко Свѣтила восходъ ежедневный. Но тѣло – не Солнце: азъ есмь Солнце.
– Тягаться съ тобою есть дѣло невозможное, и словеса твои, несоразмѣрныя вѣку сему, – самое невозможное и самое прекрасное, что доселѣ слышалъ міръ… – съ улыбкою сказалъ Акеро, словно покоряясь превосходству М.
– Несоразмѣрныя ни сему вѣку, ни вѣку прошедшему, ни вѣку грядущему! – съ радостью сказалъ М.
Не успѣли герои сойти съ ладьи на брегъ, какъ услышали они отчаянный крикъ нѣкоего мужа:
– Ира, нѣтъ! Я на всё готовъ тебя ради, помни, только не дѣлай сего! Лучше ужъ я прыгну, но не ты, не ты!
– Поздно, Касато не любитъ меня, прежестоко отвергъ онъ меня; онъ послѣ всѣхъ моихъ блужданій по лабиринту скорбей и бѣдъ, послѣ моихъ словесъ, послѣ признаній моихъ сердечныхъ произнесъ: «Чтобъ дѣвка какая (пусть и изъ прекрасныхъ прекраснѣйшая) претворила меня, Касато, въ ягненка? Не бывать тому. – Только наложницы, они бо суть созданія болѣе тихія», – пѣла Себь Иры черно-красныя свои пѣсни, но то была лебединая пѣсня ея, ибо, услышавъ грустный дѣвичій отвѣтъ, М. и Акеро услышали и тотчасъ же воспоследовавшій за нимъ всплескъ глади морской: Ира бросилась въ море лазурное со скалы, разбившись насмерть.
Снова отъ природы, полной тиши и нѣги, вѣяла тоска. Мѣрно, мѣрно шелестѣла трава, а волны невинно забавлялися другъ съ другомъ, какъ и прежде, какъ и всегда, мирно-мѣрно ратуя другъ съ другомъ, играяся, рѣзвяся, блаженно-блещущія; ударяясь о брегъ, мирно-мѣрно свершаютъ онѣ обращенье назадъ, дѣютъ возвратный порывъ, недовольно шумя на прерванный было свой лётъ.
Равнодушно и безмятежно на произошедшее взирала Природа: глазками птицъ, букашекъ, рыбъ, листвою древъ. Приняла она Иру въ лоно свое. Прахъ къ праху – неизбывный законъ ея; потому не могла она, невинная въ причудливыхъ своихъ метаморфозахъ, быть удивленною, неспокойною.
«О неразумные! Какъ, какъ измѣнить ихъ?» – со вздохомъ произнесъ Акеро. М. молча отмахнулся. Сошедши на берегъ, Акеро вопросилъ М.:
– Желаешь ли ты продолжить дѣло Акая?
– Думно имъ, что дѣютъ нѣчто, чего свѣтъ не видывалъ и что способно удивить самое Вѣчность. Думно имъ, что они – не чувствуютъ, но вѣдаютъ-де: мы едины, ибо нѣчто каждымъ изъ насъ премного владѣетъ, насъ много, наконецъ: потому мы правы. Погляди, Акеро: слѣпцы, слѣпцы. Стадо любитъ своего пастуха, но я не пастухъ стадъ. И слишкомъ долго пили они изъ моей чаши.
– Но вѣдь и ихъ ты цѣнишь выше жрицъ.
– Конечно. Но Слѣпота ими всѣми глаголетъ. Акай былъ лучшимъ изъ нихъ, хотя и не былъ инымъ, какъ я. Онъ былъ наивенъ: онъ вѣрилъ въ чернь; думалъ: они – люди, а они – не люди; вѣрилъ: боги критскіе суть ничтожества, либо ихъ нѣтъ; не вѣдалъ: они – слуги бога всековарнаго; всѣ, опричь прозрѣвшихъ, – шуты и слуги создавшаго, развлекающіе жестокое его сердце, сколы съ ничто. О, если бы я могъ… Онъ не имѣлъ благородства души, кажущаго себя въ гордости и презрѣніи, не вѣдающемъ состраданія, въ презрѣніи, кое есть высоты души свойство непремѣнное, но онъ, поистинѣ, достойнѣйшій изъ малыхъ сихъ, что зачаты низостью, бытуютъ въ низости, суетствуя, и сами суть низость воплощенная. Онъ – духъ незрѣлый – въ зрѣломъ тѣлѣ. Я же, безмирный, немѣрный и неотмiрный воинъ духа, предпочту вѣчную потаенность, но въ иной жизни, я не царь черни. Слава? О ней не можетъ быть и рѣчи: она мірское, слишкомъ мірское: послѣднее искушеніе.
– Обогати собою міръ, изливши на него неложные свои свѣты, о сынъ Вѣчности!
– То предпослѣднее искушеніе.
– Можетъ ли кто-либо сдѣлать ихъ свободными: кто-либо, опричь тебя? – вопросилъ Акеро.
– Зачѣмъ?
– Лишь ты бы смогъ…освободить ихъ и тѣмъ спасти.
– Есть нѣчто въ мірѣ важнѣе міра и тѣмъ паче мира. Ратовать за простонародье не только низко само по себѣ, но еще и безсмысленно, ибо это имъ не надобно. Рабы рабовъ раба! О, истинно, истинно говорю тебѣ: вѣчно, вѣчно будутъ они, одни и тѣ же, возвращаться въ стойло: бытіе ихъ вращается по кругу – вкругъ стойла. О, зачѣмъ, идутъ они за мною, стелются какъ тѣни близъ меня? Любо имъ быть пылью подъ ногами моими.
– Ты – лучъ, ты проницаешь низкихъ свѣтами; ты зришь всё и всё вѣдаешь, но…
– …но не мѣняю ихъ…
– О да! Веди, о, веди ихъ къ вершинамъ духа и – къ вершинамъ отчаянія, о умершій для міра!
– Не мѣняю, ибо души ихъ мокры. Илъ и тину – не претворить въ огнь, стрѣлу и камень. Нѣтъ! Довольно! Я просвѣщалъ ихъ свѣтомъ, но они – тьма – остались во тьмѣ. Но тьма еще растаетъ. Ибо пріидетъ Свѣтъ съ Востока: то будетъ вѣяніемъ лазури. Реченное Дѣвою – святыня наивысшая и богатство неисчерпаемое. Нѣтъ на землѣ ученія благороднѣе, ибо оно не отъ земли, но отъ неба; оно – жало неба… Отнынѣ родъ людской раздѣленъ на многихъ и немногихъ, и прежнія ученія, ученія ложныя и злыя, жала земли, прекращаются для всего высокаго. И только для нихъ! Низкіе же да пребудутъ низкими, какъ и надлежитъ, и да пребудутъ ступенями для высокихъ. И для послѣднихъ я еще желалъ бы быть послѣднимъ, ибо первымъ для нихъ я уже былъ, хотя того и не желалъ; богомъ для нихъ я уже былъ, но не былъ червемъ; впрочемъ, на то времени нынче нѣтъ; и ничѣмъ и никѣмъ – до встрѣчи съ Нею – я уже былъ; но послѣднею моею волею будетъ: быть внѣ ихъ, – что вскорости и произойдетъ, ибо я желаю оставить слѣпыхъ. Знаешь ли, я лишь радъ тому, что они неспособны къ тому, что бездна безднъ межъ насъ.
– Почему?
– Ибо тогда они были бы сродственны мнѣ, а я не могу быть съ иныхъ поръ сродственъ убожеству.
Вдругъ М. неожиданно, съ лукавою усмѣшкою, взялъ въ руки кубокъ, захваченный въ одномъ изъ дворцовъ, необыкновенный въ красотѣ своей, съ изображенными на нёмъ быками, играющій свѣтами на Солнцѣ, кубокъ, дотолѣ лежавшій въ ладьѣ, и налилъ вина; и, выпивши, предложилъ и Акеро, сказавши предъ тѣмъ: «Кровь Земли-Матери не страшна для чадъ свѣта». Послѣ того какъ выпили, кубокъ осушивши до дна, М. неожиданно для Акеро изрекъ:
– Ты предашь меня.
– Никогда!
– Предашь: такова воля Судьбы. И разность межъ нами лишь множиться будетъ.
– Да минуетъ меня чаша сія! Я…мы не подъ властію Судьбы.
– Нынѣ нѣтъ. Но послѣ – будешь ты подъ властью ея…
– Но, другъ, дорогой другъ, не въ моей ли власти измѣнить Судьбу? Мы не выше ли Судьбы? – вопрошалъ Акеро.
– Не въ твоей, но только въ моей власти; не ты вершитель Судьбы своей. Либо Я, либо природа: выбирай, – сказалъ М., тяжело глядя на Акеро.
– Природа, въ лонѣ коей – я и ты.
– …на поводкѣ коей ты. Природа – лишь часть Жизни. Жизнь стелется по міру неложно: и рѣкою изливается, и стрѣлою летитъ: мѣрно. Истинно говорю тебѣ: каковъ міръ, такова и жизнь, потворствующая всему низкому. Жизнь ниже меня: я выше міра. И знай: я буду дѣять должное быть содѣяннымъ – съ тобою или безъ тебя.
– И что же будешь дѣять, ежель ни возстаніе, ни возставшіе, ни самый Критъ тебя не прельщаютъ?
– Изгнать Время, дабы воцарилась Вѣчность, – сего лишь алчу. Ибо всѣ ступени вѣковъ – и прошлыхъ, и грядущихъ – во смрадѣ Аримана – съ рѣдкими, лишь рѣдкими просвѣтами Бога Неизглаголаннаго. Молчитъ Богъ – вопятъ лишь боги.
Акеро такъ же неожиданно, какъ и дѣйствіе М. до сего, рѣшительно дотронулся до руки М., то ли тщась понять, не сонъ ли всё происходящее, то ли желая познать, не призракъ ли М., имѣетъ ли тотъ кровь и плоть. М., усмѣхнувшись, отвѣтствовалъ: «Да, Акеро, я имѣю плоть, но плоть не имѣетъ меня въ лонѣ своемъ: я – духъ, облаченный въ плоть, я – непреходящее, облаченное въ преходящее».
Глава 4. Два разговора
Въ то время какъ дворцы таяли, яко снѣгъ, плавимый Свѣтиломъ весеннимъ, произошелъ – въ прерывахъ межъ сраженіями – одинъ примѣчательный разговоръ. Однажды М., вышедши изъ шатра, взиралъ на закатное Солнце, словно застывшее въ вечернихъ туманахъ, вращая думы въ мозгу. Неожиданно тьма сгустилась – и матеріализовалась: въ матерію и тьму, явленную: пятномъ чернѣющей фигурой. Фигура, пришедшая изъ ниоткуда, но темно-туманно явившая себя слѣва отъ М., была подвержена хаотическимъ дёргамъ, пляскамъ; по мѣрѣ ея всё возрастающаго претворенія въ нѣчто оформленное, стало видно: она ужасна: несоразмѣрнымъ и безобразнымъ своимъ очертаніемъ: равно въ чертахъ «лица», равно въ чертахъ «тѣла»; «тѣло» – плясало, кружилось, дергалось, не стояло на мѣстѣ, какъ будто и не вѣдая объ огромномъ, опухшемъ своемъ животѣ, но чаще содрогалось; «лицо», изъ коего безпорядочно низвергался черно-красный языкъ, – себя явило мертвымъ взглядомъ. Припахи гнили обстали героя, тотчасъ же взявшаго въ руки мечъ. Слышались: царапанье, нытье, слезы, всхлипыванье, мѣрно и непостижимо исходящія откуда-то созади, прерываемыя раскатистыми ударами колокола, что казалось отсчитывалъ время непомѣрнымъ охватомъ звучащихъ нотъ – отъ громовыхъ до пискляво-режуще-высокихъ. Тьма фигуры засіяла на «лицѣ» ея, слѣпя очи: вспыхнуло «лицо» ея, – и она зачала разговоръ:
– «Ариманъ, Ариманъ, я желаю боя съ тобой! Гдѣ же ты? Ты убоялся предстать предо мною однажды и исчезъ, яко дымъ; ты – духъ трусливый. Но я уповаю, что ты предстанешь предо мною подъ сѣнью воинства твоего. Я предамъ васъ огню мѣди своей, я вспорю вамъ брюхо! А послѣ, послѣ я желаю разить и царя вашего: коварнаго всебога, создателя!» – не твои ли словеса, о юный, храбрый герой? Силами ты алкалъ помѣриться въ безумной и бездумной своей вседерзости – для того воззвалъ ты къ Намъ, опьяненный безмѣрной своей мощью; но и твоя мощь – ничто: противу боговъ; она не сильна и оцарапать ни Насъ, ни нижайшихъ Нашихъ помощниковъ, слабѣйшій изъ которыхъ въ силахъ когтемъ перевернуть всю Землю! Тогда Мы не предстали тебѣ, ибо не пришло Время. Вторьемъ твоего же гласа отвѣчала тогда тебѣ Земля; и было слышно – послѣ мнимо-великихъ твоихъ словесъ – лишь молчанье Земли-матери, и не были зримы Мы, Ариманъ, царь Мы. Могли бы Мы сказать: «На что дерзнулъ, юнецъ!», – но пришли Мы съ миромъ и имѣемъ къ тебѣ слово, ибо желаемъ предупредить тебя о надвигающейся опасности скораго твоего успенія. Оставь, оставь дѣло неосуществимое: тебѣ не побѣдить; вмѣстѣ съ тѣмъ ты – уже – заслужилъ награду. Сложи бремена свои, почій, ибо и твое многомощное тѣло подлежитъ Усталости, и вкуси, вкуси великихъ моихъ благъ: гряди со Мною, о, гряди: въ Жизнь!
М. сказалъ, гордо выступивъ къ тьмѣ, сквозь которую лучили себя безпорядочно ея облѣпившіе огни – очи Аримана, не могшія хотя бы и на мигъ задержаться ни на чёмъ, мѣнявшія и свои очертанія, и свои мѣстоположенья на «лицѣ» его, и свои количества, равно какъ и яркость свѣченія, то затухающую, то становящуюся слѣпительной, словно Солнце, – не очи, а суетливость воплощенная:
– Да почемъ тебѣ знать, что я имѣю дѣять и сумѣю содѣлать, о духъ бытія, кое есть небытіе, духъ Жизни, которая есть Смерть? Что можешь ты вѣдать обо мнѣ, слѣпецъ съ очами огненными, вѣдающій лишь мычанье и мыканье? Ты не вѣдаешь, ни ЧТО есть Я, ни что оно ЕСТЬ; тѣмъ паче, не вѣдаешь ты моего Я, о морокъ!
Смѣхъ, явленный скрежетаньемъ и рокотомъ казалось бы былъ отвѣтомъ единымъ: Аримана; но послѣдній добавилъ къ сему:
– Мы вѣдаемъ: мы – духъ. Мы – тамошняго Солнца отблескъ.
– Ты – отблескъ Солнца здѣшняго, что можешь ты знать о тамошнемъ, о духъ плоти, царь плотяной, властитель хлѣбовъ земныхъ, гораздый кормить желающихъ, а желающіе, принявъ хлѣбы, отъ того лишь болѣе гладомъ томятся? Ты желаешь, чтобы я престалъ быть тѣмъ, чѣмъ я являюся. Ради сего ты здѣсь, о сердце плоти, не вѣдающее духа. Не искушай меня, морокъ, – не трать время.



