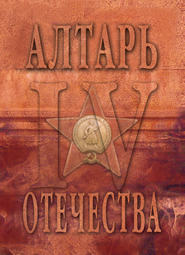 Полная версия
Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4
Для Ивана Ивановича понятия «Родина», «Народ» были не пустым звуком, за них он был готов отдать всего себя без остатка.
29 сентября 1941 года капитан И.И.Волосевич погиб при выполнении боевого задания, вместе со своим самолётом он был погребён в водах Чёрного моря.
– Теперь больше не увижу своего брата, – тихо сказал Николай Волосевич, – как будет теперь воспитывать малолетних детей Анна Егоровна? В начале войны она с Луизой и Юрой жила в Петродворце. Где они теперь, что с ними?
В блокадном Ленинграде
Город Ленинград оказался отрезанным от страны. Все сообщения по суше были перерезаны. Лишь узенькая полоска воды по Ладожскому озеру была надеждой на связь с Москвой.
Потеряв уверенность взять Ленинград штурмом, гитлеровское командование приняло решение отрезать огромный город с населением около трёх миллионов от продовольствия и топлива, сломить волю и дух ленинградцев, заставить отказаться от сопротивления. Помимо этого, постоянно и планомерно разрушать город с помощью авиации и артиллерии, и так держать город всю зиму. Решение Гитлера от 7-го октября – не принимать капитуляцию Ленинграда, а позднее Москвы.
«Весной мы проникнем в город, вывезем всё, что осталось живое вглубь России, или возьмём в плен, сравняем Ленинград с землёй и передадим район севернее Невы Финляндии» – планировалось в директивах немецкого командования. Вот такая судьба предрешалась Ленинграду гитлеровцами.
Ленинградцы готовили город к жестокой длительной обороне.
По данным исследователя-писателя В.Е.Вубакова «с первого сентября 1941 года по первое января 1942 года на оборонные работы было затрачено около девяти миллионов человеко-дней, из которых 88 % приходилось на долю гражданского населения. Только в 110 узлах обороны ленинградцы возвели 570 артиллерийских и около 3600 пулемётных дотов, проделали 17 тысяч амбразур в зданиях, построили более 25 километров баррикад и 300 наблюдательных пунктов, открыли 12 тысяч стрелковых ячеек».
Ленинград с его пригородами превратился в мощный укреплённый район. Кроме баррикад на площадях и перекрёстках грозно высились доты. Противотанковые ежи и надолбы перекрывали все въезды в город. Окна домов и витрины магазинов были заложены мешками с песком и кирпичами, виднелись амбразуры огневых точек. Зенитная артиллерия города, кораблей и фортов Балтийского флота готовились обрушить на противника лавину огня. Все стремились победить врага, что бы это ни стоило, никто не хотел попасть в рабство к фашистам.
«За три осенних месяца 1941 года враг обрушил на Ленинград почти 25 тысяч снарядов, около 65 тысяч зажигательных бомб и более 3 тысяч фугасных бомб. От воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов в городе за это время погибло 2063 и ранено 10569 человек.
Почти непрерывно рвались снаряды на улицах и площадях. Запасов продовольствия по состоянию на первое сентября 1941 года было не более чем на 30 – 60 суток. Почти отсутствовали картофель, овощи, фрукты. С первого октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать 400 граммов недоброкачественного хлеба в сутки, а все остальные – по 200 граммов. Резко сократилась выдача других продуктов», пишет В.Е.Зубаков в своей книге «Героический Ленинград».
Связь Ленинграда со страной осуществлялась только через Ладожское озеро, небольшие баржи и суда преодолевали сильные осенние штормы, самолёты отбивали атаки вражеских самолётов, которые постоянно висели в воздухе. Только благодаря мужеству и бесстрашию моряков доставлялось продовольствие, медикаменты, вооружение, боеприпасы, топливо и многое другое. На обратном пути баржи загружались людьми, заводским оборудованием и рабочими, которые направлялись к эвакуированным предприятиям. За этот небольшой срок было доставлено в Ленинград 60 тысяч тонн продовольствия, боеприпасов и горючего. Вывезено из Ленинграда 39 тысяч человек, включая престарелых, детей и раненых.
С 16 ноября для вывоза людей стали применять транспортные самолёты. В Ленинград ими было доставлено пять тысяч тонн продовольствия, десятки тонн медикаментов и почты. Из блокадного Ленинграда самолётами были переброшены специалисты эвакуированных заводов, раненые и дети. Подробнее об этом можно прочитать в сборнике очерков и воспоминаний «Воздушный мост над Ладогой». Экипажи транспортных самолётов понимали, что каждая тонна доставленных продуктов спасала жизнь тысячам горожан. Перевозками грузов и людей непосредственно занимался Ленинградский Областной комитет партии во главе с секретарём обкома Терентием Фомичом Штыковым. Охрану самолётов в воздухе осуществляли лётчики 12-й КОИАЭ. Аэродром Смольный недалеко от железнодорожной станции Ржевка стал важным после Комендантского. Сюда прилетали ежедневно до семидесяти транспортных самолётов. Ввиду перегруженности аэродрома, 12-й КОИАЭ перевели на аэродром Гражданка. Теперь Егор стал жить не в Приютино, а в Котлотурбинном институте. Задача оставалась та же – обслуживать самолёты, которые охраняют с воздуха «Дорогу жизни».

Заместитель инженера 12-й КОИАЭ, старший техник, лейтенант Степан Иванович Филимонов. 1942 г.
В первых числах декабря техники совсем ослабли от недоедания. Им приходилось всё время находиться на морозе, а питание не соответствовало физической нагрузке. На суточный паёк они получали 400 грамм хлеба и очень жидкий суп из крупы.
Блокадный хлеб. Трудно определить, из чего он выпекался. Основным компонентом был жмых (дуранда), потом всякие примеси мучного. На вид был чёрным и рассыпчатым.
В 5.00 подъём. Инженер объявил список идущих на аэродром по обслуживанию самолётов. Опять те же: В.Богунец, Е.Буранов, М.Глебов, С.Попов, Е. Складаный. Остальные настолько ослабли, что появилась отёчность, работать не могли, медики считали их полными дистрофиками. Егор и Евгений Складаный работали вместе по старой привычке. Прогрели мотор большой подогревательной лампой, заправили горячим маслом, и Егор сел в кабину, чтобы запустить мотор. Несколько витков стартёром, и мотор заработал. Складаный показал большой палец, это означало, что мотор работает исправно. После пробы на всех оборотах стали чехлить.
Вот тут-то и загвоздка. Чехол из брезента и ваты стал слишком тяжёлым для ослабевших от голода. Он им был не под силу, а надо спешить, мотор остывал быстро. Тогда пошли на хитрость, выручила природная смекалка. Егор забрался на верх мотора, привязал к ноге лямку от чехла и упал вниз. При падении лямка потянула чехол, и он встал на своё место. Этот способ потом использовали все техники. Вверх смотреть было нельзя, кружилась голова. Поглощённые обязанностями, техники забывали о еде, и это их спасало. Самолёты регулярно вылетали на боевые задания.
Вечером, когда пришли в общежитие, поужинав, Женя сказал:
– Ещё бы пять раз по столько.
Однажды секретарь парторганизации В.Г.Мальцев принёс билеты на концерт в цирк. Это было ново, до этого никуда на зрелища не ходили. Егор вспомнил, как он с молодой женой Любой ходил в цирк. Это было незабываемое зрелище, праздник, на всю жизнь запомнились воздушные акробаты, наездники, фокусники.
Складаный тоже решил поехать. Было холодно, шинелей пока ещё не получили и поехали прямо в техническом обмундировании. В цирке было холодно, сидели в шапках. На сцену вышел оркестр под руководством Вадима Коралли. Аплодисменты. Вышла всеми обожаемая Клавдия Ивановна Шульженко. Аплодисменты. Она исполнила всеми любимые песни: «Синий платочек», «Давай закурим», «Мама». Неожиданно раздался вой сирены. Голос диктора звучал по радио: «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Всем перейти в бомбоубежище!»
Через две минуты цирк опустел, будто всех ветром сдуло. Егор и Женя оказались в толпе в каком-то подземелье. Никто не говорил и не спешил. Через полчаса прозвучал тот же голос диктора: «Отбой тревоги! Отбой тревоги!»
После этого сигнала никто не захотел досматривать цирковые представления. Группа техников покинула бомбоубежище, сели в свою автомашину и уехали в общежитие. В мерцании коптилки каждый молча нашёл свою койку.
Авиатехники продолжали обслуживать самолёты И-16. Труднее было собрать оставшихся в живых лётчиков 12-й КОИАЭ. Они были прикомандированы по разным частям. Многие возвращались из госпиталей. Так, Григорий Григорьевич Бегун, прежде чем попасть в свою 12-ю КОИАЭ, прошёл многие передвижения. С острова Эзель они с Александром Александровичем Шитовым прилетели в Петергоф для замены моторов. В Беззаботном они получили эти самолёты, но их не пустили на Эзель. Положение в Ленинграде было тяжёлое, и их оставили для боевых действий в 71-м авиаполку в Кронштадте, где командиром полка был А.В.Коронец. Там они воевали с фашистами и только 20 сентября их отправили на Эзель. Их самолёты достались другим лётчикам, а они ночью второго октября вместе со штабом БОБРа ушли на торпедных катерах на остров Даго. Затем на транспортном самолёте улетели в Ленинград, и оттуда их снова направили в действующие авиаполки.
Александр Шитов героически погиб при штурмовке Гатчинского аэродрома, направив свой горящий самолёт на скопление фашистских «юнкерсов», готовых для взлёта. Сам сгорел, и с ним сгорело много вражеских самолётов.
Николай Хромов прибыл из 71-го авиаполка.
Вернулись в свою 12-ю КОИАЭ молодые лётчики, воспитанники И.К.Полях: Борис Копьёв, Иван Королёв, Виталий Корнилов, Михаил Масленников.
Иван Гореликов вернулся из госпиталя. Двенадцатого сентября он был ранен в воздушном бою под Низино.
Всех лётчиков направляли в Богослов на переучивание и тренировку на новых самолётах. Там они встретились, с грустью вспоминали погибших. Долго не спали вечером, при мерцании коптилки слышался разговор:
– А где похоронили Бориса Середу?
– Он погиб в Липово в начале войны. Взлетел с полной нагрузкой бомб, на низкой высоте сделал боевой разворот, и самолёт упал на своём аэродроме. Сгорел Борис Сергеевич. Сначала похоронили в Липово, но потом он был перезахоронен на кладбище в Краколье. Там же похоронен Н.А.Казаков и моторист Л.Г.Киселёв, которого убили в Липово при штормовке аэродрома.
– А где погиб Анатолий Григорьев?
– Анатолий Борисович Григорьев и Борис Константинович Панкратьев были ранены в бою при защите Таллина.
– Жалко мне друга, Бориса Панкратьева, – сказал Павел Шевцов. – Борис жил в Ленинграде. Как лучшего производственника, его послали учиться на лётчика. После училища попал в отряд Бориса Годунова. Он принял все лучшие качества Годунова, закалял характер, отрабатывал лётное мастерство.
– А где погибли Яков Иванович Ёхин и Константин Сергеевич Сельдяков?
– Они погибли в воздушном бою над аэродромом Котлы в конце августа 1941 года.
– А где видели Юрия Залеева и Николая Аниськина?
– Они погибли в воздушном бою под Кронштадтом.
Так вспоминали друзей, их боевые подвиги.
Шли дни и ночи лишений и упорного сопротивления блокаде.
Рушились дома от артобстрелов и бомбёжек, ленинградцам всё чаще приходилось отсиживаться в бомбоубежищах. Наши самолёты обнаруживали вражеские артиллерийские установки, разрушающие город, старались подавить их, но этого было недостаточно, чтобы уничтожить полностью. Днём улицы были пустынны. После артобстрелов лежали трупы. В конце октября начались морозы, а в ноябре они достигали до 40 градусов. Выбитые окна квартир без стёкол заложены фанерой, подушками или картоном. Волховская электростанция прекратила функционировать, местные электростанции были без топлива. Не стало электроэнергии, а значит и нарушилась подача воды, работа канализации. Жители потянулись с вёдрами к Неве. Центральное отопление перестало работать, в квартирах стали устанавливать жестяные печки, трубы для вывода дыма ставили прямо в окна. Дров и угля не было, чтобы согреться, сжигали мебель, паркет и даже книги. Остановились трамваи и автобусы, рабочие на предприятия ходили пешком. Благодаря героическим усилиям и стойкости, люди не бросали свои заводы, шли и выполняли нормы. Ранним утром они пешком тянулись с Васильевского острова на Нарвскую заставу, с Выборгской стороны на свои рабочие места. После работы многие падали и уже больше не вставали, отдав свой последний долг. В цехах было холодно. Рабочие по нескольку суток не выходили из цехов, выполняя срочные фронтовые заказы.
Фашисты обстреливали и бомбили заводы: «Кировский», «Большевик», «Электросила», многие другие предприятия. Снаряды рвались внутри зданий, убивали рабочих. На их места вставали другие.
«Лучше умереть стоя, чем встать перед врагом на колени! Камни будем есть, а Ленинград не сдадим!» – так решил каждый рабочий.
Осенью 1941 года, когда шли оборонительные бои под Москвой, ленинградцы изготовили и послали туда сотни артиллерийских установок, десятки тысяч автоматов и других видов оружия. Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.Жуков 28 ноября 1941 года прислал телеграмму на имя А.А.Жданова: «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами». Ленинград доставил более трёх миллионов снарядов и мин, свыше трёх тысяч полковых и противотанковых орудий, 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и бронеплощадок, и много другой техники, инженерного имущества и средств связи. Огромное количество оружия и боевой техники было отремонтировано и отправлено на фронт. (Е.Зубаков «Героический Ленинград»).
Большой силой в обороне Ленинграда были женщины. В голодном, холодном городе они освоили «мужские профессии» на производствах, тушили на крышах домов зажигательные бомбы, ухаживали за ранеными, отдавали им свою кровь, шили обмундирование.
«В Ленинграде нет грани между фронтом и тылом, – говорил А.А.Жданов, – все живут одной мыслью, одним духом – всё сделать для разгрома врага…»
Боевая жизнь 12-й КОИАЭ
Теоретическое изучение самолёта ЛаГГ-3 лётчиками закончилось. Надо было техникам посмотреть его и пощупать своими руками, а их не было. Егору дали задание – получить самолёт ЛаГГ-3 в мастерских Комендантского аэродрома.
Ранним утром Егор направился в авиамастерские. Когда он вышел из здания бывшего котлотурбинного института, где они были расквартированы, мороз прощупал его куртку и ватные брюки на прочность и теплостойкость. Снег хрустел под ногами, но это не придавало бодрости. Не было сил передвигать ноги. Давало себя знать блокадное питание. На трамвайной остановке никого не было, пути занесены снегом. Где-то стоял трамвай, заснеженный и брошенный месяц назад из-за отсутствия электроэнергии.
Приказ надо выполнять, Егор пошёл пешком. Маршрут не знал, пришлось расспрашивать у прохожих. Люди шли молча, еле передвигаясь к магазину и обратно. Возле колонны серого дома стоял без движения дворник, опираясь на метлу, далее улица была перегорожена колонной людей, тянувших за собой детские санки со свёртками из простыней. Свёртки не все помещались в санках, волоклись, оставляя на снегу рыхлую полосу.
Егор дошёл до проходной Комендантского аэродрома, вахтёру предъявил документы.
Вахтёр позвонил по телефону и сказал:
– Самолёт не готов к сдаче, придите завтра.
Обратный путь был знаком, Егор снова встретил колонну людей со свёртками на санках.
– Что они везут? – спросил он.
– Мертвецов, – равнодушно ответил угрюмый попутчик.
Егор шёл, едва переставляя дрожащие от бессилия ноги.
– Иду правильно, – про себя сказал Егор, – вот этот серый дом с колоннами.
Возле колонны стоял тот же дворник. Он не отступил ни на шаг от прежнего места, всё так же опираясь на метлу, как на винтовку.
– Он целую неделю так стоит оледенелый, – сказала шедшая рядом женщина едва слышным голосом на вопросительный взгляд Егора.
Впереди шёл пожилой мужчина в драповом пальто, тяжело опираясь на палку. Шёл, и упал прямо Егору под ноги.
– Помоги, милый, я здесь рядом живу, помоги! – умолял он, вцепившись руками в полу куртки Егора.
– Поднимайся, батя, вот так, – сказал Егор, – держись за палку!
Пожилой мужчина поднялся, сделал несколько шагов и снова упал. Руками ловил прохожих. Егор начал его поднимать, от напряжения закружилась голова, и он упал рядом с мужчиной. Немного отлежавшись, Егор поднял голову и посмотрел на упавшего мужчину. Тот лежал вверх лицом с заострённой седой бородкой, лежал без признаков жизни, открытыми глазами смотрел в серое блокадное небо. Егор потрогал плечо, ответа не последовало. Опираясь на палку, Егор с трудом встал, положил рядом с мужчиной его палку и пошёл, медленно переставляя ноги, чтобы не упасть.
Обратный путь показался очень длинным. Дошёл до Котлотурбинного, когда уже стало темнеть. В столовой поел «суп из редких круп», как его называли техники, и маленький кусочек хлеба.
– Ну как, самолёт получил? – спросил авиатехник Сергей Попов.
– Не готов, – ответил Егор, – велели придти завтра.
– Когда пойдёшь по тёмному коридору, – сказал Сергей, – смотри не споткнись. Там мертвец лежит.
– Почему не уберут? – спросил Егор.
– Когда он упал, я хотел отнести, но не смог, тяжело. Я отодвинул его в сторону, чтобы не спотыкались.
Егор остался в столовой последним. Когда подошёл к кубрику, увидел на двери объявление:
«Сегодня 22 декабря 1941 года в 19.00 состоится партийное собрание.
Повестка дня:
Приём в кандидаты ВКП/б т.т. Буранова Е.М., Богунца В.И., Богомолова Д.П., ВапеваловаГ.А.
Секретарь парторганизации 12-й КОИАЭ В.Мальцев».
Собрание состоялось. Много добрых слов было сказано в адрес поступающих. Они же давали обещание партии быть достойными сынами Родины, отдавать все силы и знания на разгром ненавистного врага.
Сестра милосердия
С давних времён первую помощь пострадавшему воину на поле брани оказывала сестра милосердия, которую стали проще называть медсестрой.
На Ленинградском фронте эту обязанность выполняла девушка по имени Женя, по фамилии Максимова. Воспитывалась она в крестьянской многодетной семье последним ребёнком. При её появлении на свет матери было 48 лет, отцу – 49, а потому своих родителей молодыми Женя не видела.
В 1927 году Женя окончила семилетку и поехала учиться в Рокковскую медицинскую двухгодичную школу. После окончания школы многие выпускники были направлены на работу в Ленинград и Ленинградскую область, в их числе была Женя, ей было семнадцать лет.
Приехали в Ленинград зимой 1940 года. Выйдя из вагона, молодые медики почувствовали жуткий холод, на Жене было старенькое пальто матери из толстой байки, сшитое деревенским портным. Пальто было велико, висело на Жене, как на вешалке, на ногах ботинки, сшитые отцом из самодельной кожи. Во время учёбы Женя подрабатывала санитаркой, пытаясь заработать на пальто, но денег не хватило. По распределению Женя попала в Ленинградский Дом малютки № 8 в Пулковском районе. Воспитание в многодетной семье было на пользу, она привыкла к коллективу, была покладиста, приветлива, и вскоре была избрана секретарём комсомольской организации. Работы было много, но ещё больше планов. Женя поступила на подготовительные курсы в медицинский институт. На свои заработанные деньги в первую очередь купила себе пальто и в обновке поехала в отпуск к родителям. При встрече радости было через край. На Женю домочадцы смотрели, как на взрослую, а ей хотелось шутить, беззаботно смеяться, танцевать. Отпуск прошёл быстро, Женю снова ожидала работа, курсы, обязанности комсомольского вожака. В воскресенье двадцать второго июня вышла погулять по Невскому проспекту и вдруг по радио услышала страшную весть: фашисты бомбили советские города, началась война.
Двадцать третьего июня она получила повестку прибыть в военкомат с вещами. Женю переодели в военную форму и направили служить в 47-й батальон аэродромного обслуживания, который сокращённо назывался 47-й БАО. Военный аэродром находился в пяти километрах от Невской Дубровки. Через Неву из-под железнодорожной станции Мга, где шли кровопролитные бои, доставляли раненых в их батальон. Там их первично обрабатывали и на автобусах направляли на лечение в больницу имени Мечникова. В одну из поездок на автобус с ранеными напал фашистский самолёт. Несмотря на то, что автобус был с красными крестами, фашист стал расстреливать тяжелораненых. Автобус остановился, раненые, кто мог, залегли в дорожные кюветы. В автобусе остались двое тяжелораненых, которые не могли передвигаться. Женя тоже осталась в автобусе, она считала своё присутствие там необходимым.
– Уходи, Женя, уходи скорее! – говорили ей раненые, но Женя не смогла их оставить.
К счастью, всё обошлось благополучно, раненые остались невредимыми после пулемётного обстрела, а бомбу фашист не стал тратить.
С сентября 1941 года фашисты начали постоянно бомбить Невскую Дубровку и восьмую ГЭС. Это было ужасно, на земле, казалось, не осталось живого места. Восьмого сентября фашисты захватили восьмую ГЭС и крепость Шлиссельбург. Ленинград оказался в блокадном кольце. С севера финны, с юга немцы, остался один проход через Ладожское озеро. Пришёл приказ на перебазировку 47-го БАО в посёлок Янино, где был построен новый аэродром. Всех девушек из БАО отчислили в распоряжение санитарного управления Ленфронта (СУЛФ). Женю направили в 95-й эвакогоспиталь, который находился на Площади Труда в городе Ленинграде. Здесь Жене пришлось пережить самые трудные дни почти девятисотдневной блокады.
При скудном пайке, без отопления и света надо было жить, работать в госпитале и защищать город. Фашисты бомбили, расстреливали из дальнобойных орудий, сбрасывали по нескольку раз в день зажигательные бомбы. Один снаряд попал в госпиталь, упал на пол, но не разорвался.
В декабре стали умирать люди от голода и холода. Умирали везде, на производствах, на улицах во дворах, в подъездах, на лестницах домов и в квартирах. Воды не было. Топили снег, чтоб добыть воды или носили её из Невы. Отапливались печками «буржуйками» с выведенными железными дымоходами в окно. Сжигали всё, что горит, а вот питаться было нечем. Стёкла окон были выбиты при артобстреле, вместо стёкол виднелись куски фанеры и свёрнутой материи. Женя узнала, что на Петроградской стороне имеется немного целлофана, она с несколькими медсёстрами поехали туда, привезли и заделали окна. Начальник госпиталя Крымский, секретарь парторганизации Куль и секретарь комсомольской организации Соколов отметили инициативу девушек и объявили благодарность в приказе по госпиталю Жене Максимовой, Деменковой и Фёдоровой. Пришёл приказ о присвоении Евгении Александровне Максимовой звания младшего лейтенанта медицинской службы.
Наступила весна 1942 года. Снег начал таять, обнажая грязь и нечистоты после суровой зимы. Городу угрожала эпидемия от загрязнения, надо было немедленно убрать трупы, которые начали разлагаться. Девушки из госпиталя – Женя Максимова, Женя Деменкова, Мария Фёдорова, Оля Иванова, Маша Кобуева, Наташа Клёпикова и другие добровольно согласились и начали вытаскивать из квартир трупы, выносить в подъезды. Оттуда их на машинах отвозили на кладбище. Однажды Оля и Женя открыли дверь в одну из комнат и услышали разговор. На койках лежали умирающие от голода мать и сын. Десятилетний мальчик говорил матери:
– Мама, плохо, что я умираю в конце месяца, лучше бы в начале, мои карточки остались бы, ты бы питалась на них.
Им помогли собраться и выйти в подъезд, потом пришла санитарка и забрала в больницу.
Девушки переходили от одного дома к другому. Трупы были везде, даже на чердаках.
На бульваре Профсоюзов и площади Труда, на улице Красной и улице Труда образовались глыбы льда. Девушки взяли ломы, стали их колоть и на волокушах из фанеры увозить к мосту Шмидта и сбрасывать в Неву. Откуда брались силы у этих тружениц? Они были настолько слабы от голода, что их качал ветер. Были случаи, когда они умирали на глазах у всех с лопатой в руках.
В 1942 году госпиталь закрылся, и всех девушек откомандировали в распоряжение СУЛФа.
Женю Максимову направили в 104-й погранполк, который нёс службу по охране Ладожской «дороги жизни» от Краськово, побережья Ладожского озера на фронте с финнами, до Шлиссельбурга, немецкого фронта. Штаб полка размещался на станции Ириновка. Это, можно сказать, была тыловая часть. Женя выполняла обязанности санинструктора.
Девушки стали ходить на занятия по изучению стрелкового оружия, а затем на стрельбы. По стрельбе из винтовки Женя показала хорошие результаты, её похвалили. Обращаясь к бойцам, старший лейтенант Н.И.Куликов сказал:
– Баба и та лучше вас стреляет!
Жене показалось обидным, что её назвали «бабой». После стрельбищ она ушла в лес и там плакала, пока её не нашёл старший лейтенант Г.А.Кулакин.
– Не сердись, Женя, – успокаивал её Кулакин, – ведь он только хотел взбодрить бойцов, сказал, что девушка лучше их стреляет.
На вечерней поверке старший лейтенант Куликов извинился и приказал всем относиться к санинструктору почтительно. Женя начала тренироваться по стрельбе из снайперской винтовки. Долго не получалось и, наконец, она выполнила отлично все упражнения. Её зачислили санинструктором в снайперскую команду. Впервые взяли её на боевое задание в район Белоострова за Медным озером. Жене вручили снайперскую винтовку.



