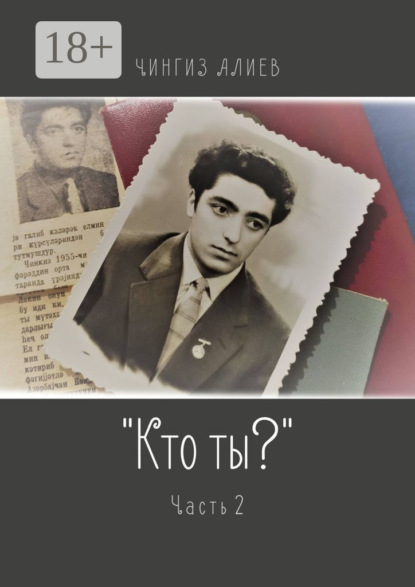
Полная версия:
«Кто ты?». Часть 2
– Как ты ходишь в них?
– Так же, как ты без них, – громко смеясь, ответила она тогда.
А теперь она в упор не замечала меня или не хотела замечать, и, чтобы уточнить это, я спросил:
– Ты не узнаёшь меня, Римма?
Сказать, что она подпрыгнула почти до потолка, – значит, ничего не сказать. Она подбежала ко мне почти впритык, уставила на меня свои маленькие и круглые глаза, несколько раз сняла и надела очки. Всё те же глаза. Я всегда дразнил её, что у неё не человеческие, а рыбьи глаза. Они действительно были похожи на рыбьи: маленькие, почти без ресниц и с чуть красным оттенком.
– Вы знакомы, Римма? – донёсся вопрос откуда-то издали.
Она ещё раз внимательно рассмотрела меня, повернулась к мужчине и сказала:
– Первый раз вижу.
Я растолковал это по-своему. Я подумал, что, видимо, этот мужик, хоть и выглядит намного старше её, есть её муж, и она не хочет признаться при нём, что знакома со мной, тем более по их понятиям я оказался таким вот бандитом. Я подумал так и очень пожалел, что назвал её по имени.
– Значит, ты не так прост, как кажешься, и, прежде чем решиться на ограбление, не только уточнил местонахождение хозяев, но и кого как звать, – иронично заметил мужчина.
– Послушайте, я могу молчать перед немощной старухой, но на наглость таких верзил, как вы, могу реагировать иначе, даже несмотря на такого помощника, как этот, – ответил я ему, показав на огромного дога.
Видимо, он ожидал, что я буду кривляться, просить прощение и прочее. Поэтому, услышав от меня такое, он очень возмутился и, сказав: «Ах так! Ну посмотрим сейчас, какой ты герой!», подошёл к телефону и позвонил. Особенно он подчеркнул фамилию и положение хозяина квартиры и попросил быстрее приехать, а появившемуся через пять минут капитану и двум сержантам объяснил, что ещё чуть-чуть – и лежали бы здесь труп достопочтенной старухи вместе с трупом не менее уважаемой собаки. Он ещё раз отметил, что в квартире этой живёт не кто иной, как профессор Кейсерман, который в настоящее время находится в Германии в составе правительственной комиссии, на что капитан несколько униженно ответил, что он давно знает об этом. Но мужик, он же, как выяснилось потом, сын профессора и не менее важная фигура, не успокоился на этом и стал требовать немедленного и самого жестокого наказания для меня, отметив, что, если я останусь на свободе, может разыграться самая жуткая трагедия с членами их уважаемого семейства, так как я знаю всех их по имени и местожительству, а это, согласитесь, не из простого. Капитан уверял его, что одно то, что я нахожусь в квартире уважаемого профессора, обеспечит мне долгие годы заключения, и поэтому он и его многоуважаемые родственники могут спокойно жить и доживать. После этого мужчина заметно успокоился и, достав из кармана визитную карточку, протянул ее капитану:
– Я буду ждать вашего звонка, – заключил он.
Капитан низко поклонился, принял визитку и, обращаясь к сержантам, сказал:
– Уведите.
Ехали мы недолго. Через два-три квартала уазик наш остановился, и мы вышли из машины. Мы вошли в полутёмный проход через почти незаметную и очень низкую дверь. На двери и вообще нигде не было ничего, что указывало бы на то, что это милицейский участок. В конце прохода находились ещё две такие же неказистые двери, также без надписей. С правой стороны доносились отрывистые постукивания пишущей машинки, что подавало хоть какой-то признак жизни в этом подземном лабиринте. Постучав в левую дверь, капитан исчез, а через минуту открыл дверь пошире и пригласил меня войти, приказав сержантам оставаться в коридоре. Я оказался в довольно большом полуподвальном помещении без окон. На потолке тускнела почти невидимая от сигаретного дыма лампочка. Напротив двери за огромным столом с подставкой сидел монголообразный верзила средних лет. Его вид говорил о многочисленных днях и ночах, проведённых в этом неживом прокуренном помещении, его вид был видом совершенно разбитого человека. Создавалось даже впечатление, что ему стоит огромного труда держать на весу верхние веки, и вот-вот они закроются. Вся поверхность стола была заставлена многочисленными телефонами, все они беспрерывно звонили. От этих звонков в помещении стоял такой гул и треск, который мне не приходилось слышать даже на самых дикообразных танцплощадках. Пока мы с капитаном рассаживались, верзила этот успел ответить на несколько телефонных звонков. Он не разговаривал, а скорее давал короткие указания о том, кого надо преследовать, где сменяться и прочее, что ещё больше укоренило мои подозрения насчёт принадлежности этих людей и их организации, если можно было назвать организацией это подвальное помещение. Увидев, что мы уселись, он поднял одну из многочисленных трубок и властным голосом сказал:
– Нелли, отключи все телефоны. Я сам скажу, когда подключить.
Разом все телефоны умолкли.
– Значит, вот этот парень находился в квартире профессора Кейсермана?
– Да.
Прошло некоторое время, в течение которого он изучал меня пронизывающим взглядом.
– Ты ничего не путаешь, капитан?
– Никак нет, товарищ генерал, сам своими глазами видел.
– Но…
– Да, – перебил его капитан, – на преступника не похож. Но думаю, он объяснит своё поведение.
– Слушаю вас, – обратился ко мне генерал.
Я достал из кармана удостоверение аспиранта и ходатайство института к дирекции библиотеки имени Ленина с просьбой разрешить мне использовать научные труды и литературу по биологии размножения и отдал их генералу. Затем коротко, но чётко объяснил, как я оказался в Москве и в гостях у Вилковых, умолчав, разумеется, о приношениях. Так же коротко я описал приключения, случившиеся со мной по дороге в библиотеку и вплоть до прихода наряда за мной.
– Значит, этих людей ты вызвал по телефону? – спросил он.
– Да, – ответил я, – другого выхода освободиться от старухи не было, и мне пришлось обмануть их.
– Но как старухе удалось затащить в квартиру такого здорового человека, как вы?
– Я не ожидал ничего такого, товарищ генерал, да и старуха оказалась очень цепкая и, как всякие высохшие люди, довольно сильная. Не успел я опомниться, уже стоял в комнате, а там она позвала собаку, так что я при всём желании не мог покинуть квартиру.
Немного помолчав, генерал обратился к капитану:
– Все ли люди утверждали, что он залез к ним насильно?
– Нет, товарищ генерал, только сын профессора утверждал это. Одна юная особа, видимо, внучка профессора, которая находилась в квартире, всё время молчала и ни во что не вмешивалась, а старуха, кажется, вообще не понимала, что происходит. Когда мы стали уводить его из квартиры, она кинулась на нас и возопила, мол, куда вы забираете его, кто же будет собирать ей мебель. Так что сыну профессора пришлось удерживать ее, чтобы она не напала на нас.
– А разобранную мебель ты видел?
– Да, это была новая покупка. Точно не разобрал что, так как она была обёрнута в бумагу, но стояла она под окном.
– Вы умеете собирать мебель? – спросил меня генерал.
– Нет, – усмехнулся я, – никогда не приходилось.
– Я тоже, – признался он. – Вилковы, у которых вы гостите, живут в таком же доме?
– Да, точно в таком же доме, на том же этаже.
– Это не муж и жена, которые оба народные артисты СССР?
– Да, они.
– Откуда вы их знаете?
– Я их не знаю. С ними знаком мой товарищ, с которым я приехал в Москву и который, по всей вероятности, сейчас находится у них.
Генерал поднял трубку.
– Нелли, соедините меня с квартирой объекта номер одиннадцать. Нет-нет, обычным телефонным звонком.
Положив трубку, он как бы для себя отметил:
– Непонятно однако, почему сын профессора, вполне приличный человек, решил наговаривать на тебя да и нас ввёл в заблуждение?
– Он говорил со мной, как с бандитом, – ответил я. – Ну и я реагировал адекватно, а это ему не понравилось.
– Да, – глубокомысленно сказал генерал, – эти господа не привыкли получать сдачи.
Зазвонил телефон.
– Алло, это квартира Вилковых? Здравствуйте. Вас беспокоят из милиции. Скажите, пожалуйста, гостит ли у вас аспирант из Азербайджана Алиев? Что? Нет-нет, ничего особенного, никаких поводов, говорю. Просто заблудился человек и обратился к нашему сотруднику за помощью. Да нет же, говорю, ничего особенного. Я просто уточняю. Что? Нет, не нужно, не беспокойтесь, наш человек доставит его к вам. Да-да, через десять-пятнадцать минут он будет у вас целым и невредимым. Да-да, прощайте! Уф, – положив трубку, добавил он, – ну и эти народные!
Тем временем капитан, вытащив из кармана визитку, протянул ее генералу:
– Что это? – взяв бумагу, спросил генерал.
– Визитка сына профессора. Грозился, что если мы не накажем этого, то он обратится выше.
Генерал посмотрел на визитку со всех сторон и бросил далеко на пол.
– Пусть обращается куда хочет. Баловали мы этих…
Затем он сказал капитану:
– Лично сам доставишь его к Вилковым. Как говорится, передашь из рук в руки, понятно?
– Понятно, товарищ генерал.
– Надеюсь, ты-то знаешь, где они живут?
– Так точно, товарищ генерал.
Генерал обратился ко мне:
– Вы слышали, что я сказал?
– Да, – ответил я.
– Так вот, – продолжал он, – никаких Кейсерман и прочих. Ты подошёл к милиционеру на улице, и тебя привезли. Усёк?
– Да, товарищ генерал.
– Всё, прощайте, – сказал он нам и, подняв трубку, произнёс: – Нелли, соедините телефоны.
Мы ещё не успели выйти из помещения, как поднялся такой бедлам, что я чуть не упал, споткнувшись об порог у входной двери.
– Кошмар, а не работа, – вырвалось у меня.
– Что? – повернув голову ко мне, спросил капитан.
– Ничего, – ответил я.
Примерно через год с небольшим я ещё раз попал в этот подвал, но на этот раз не один, а с Сабиром. Причиной тому послужила почти такая же нелепая история, как и в первый раз. Проходя мимо ресторана «Останкино», мы захотели поужинать в нём, прежде чем отправиться в комнату, которую снимали в трёхкомнатной квартире в Черемушкинском районе Москвы. Сняли мы эту комнату на месяц, чтобы собрать материал для литературного обзора диссертации и чтобы не ездить каждый день в Подольск и обратно.
Мы и раньше несколько раз ужинали в этом ресторане. Здесь было попроще, кормили сытно и сравнительно дёшево. Мы не придали значения тому, что вместо старого, всего седого швейцара обслуживал людей молодой и высокий бугай, а официанты, все как один, стали на десять-пятнадцать лет моложе и значительно привлекательнее. Такой уж город Москва. Здесь ничему нельзя удивляться. Всё меняется в считаные минуты, и нежданно-негаданно могут произойти самые невероятные вещи.
Однажды, проходя мимо ГУМа, я видел, как один пьяный мужик справляет свою маленькую нужду прямо на Красной площади и при этом громко орёт похабную песню про Хрущёва. Совсем недалеко стоял милиционер и управлял движением автомобилей. Я подошёл к нему и укоризненно заметил:
– Разве вы не видите это безобразие?
Он посмотрел на пьяного, потом на меня и сказал:
– Вижу. Разве он мешает кому-нибудь?
Вот такой город Москва. Один китаец, который учился со мной на курсе английского языка в Тимирязевской академии, как-то заметил, что Москва – единственный в мире город, где совершенно незнакомый человек может подойти к тебе прямо на улице и на виду у всех дать тебе по морде. Здесь всё смешано и меняется со скоростью света. На моих глазах сосисочная на площади имени Кирова за считаные часы превратилась в комнату смеха, а будка на площади Курского вокзала, где торговали горячими пончиками, – в общественный туалет. Такой вот город Москва, и посему мы не обратили внимания на замену обслуживающего персонала и кое-какие интерьерные превращения ресторана «Останкино», а зря.
Оказывается, в этот вечер в ресторане была организована встреча аспирантов из капиталистических государств Европы, и мы попали в самую гущу событий. Позже, когда нас допрашивали, почему мы зашли именно в этот ресторан, я ответил:
– Мы-то как раз не знали об этой встрече, а почему вы нас впустили в ресторан?».
– Мы приняли вас за венгра, – был ответ.
– Но Венгрия вовсе не капиталистическая страна.
– Ну за турка, какая разница?
В России часто можно услышать подобные безрассудные высказывания даже на самом высоком уровне.
Главный корпус нашего института и наше аспирантское общежитие находились в посёлке Дубровицы Подольского района, а наша лаборатория, где я вёл исследовательскую работу, – в посёлке Быково. Маленький институтский автобус каждое утро возил аспирантов и других работников нашей лаборатории в Быково, а вечером – обратно, проезжая каждый раз через весь город Подольск. В один из первых дней моего пребывания в Дубровицах заместитель директора, профессор Баршов, попросил меня, чтобы я по пути обратно заехал в кинотеатр «Родина» и забрал там пригласительные билеты, выделенные сотрудникам нашего института для участия в юбилейном вечере М. Ю. Лермонтова. Водитель автобуса был в курсе, и мы заехали в кинотеатр. Я представился кассирше, женщине бальзаковского возраста, и объяснил ей цель своего приезда. Она весьма рассеянно взглянула на меня и сказала:
– На вечер встречи с Гоголем, что ли?
– Во-первых, не встречи – эти люди давно покойники – а юбилейный вечер, – ответил я, – а во-вторых, не Гоголя, а Лермонтова.
Когда я это говорил, она уже рылась в ящиках своего стола. Раздражённо сказав: «да какая разница?», она нашла лист с названиями организаций, поставила галочку напротив нашего института, посчитала нужное количество пригласительных билетов и отдала мне. Я пересчитал билеты, сложил аккуратно в кучку и положил во внутренний карман пиджака.
– Спасибо, сударыня, – раздельно отчеканил я, – работники колбасного цеха нашего мясокомбината, где я имею честь работать, будут очень благодарны вам за то, что вы нашли возможность и выделили нам несколько пригласительных билетов на вечер встречи с Квазимодой, или, если вам так угодно, с Держикраем.
Сказал и отошёл от кассы.
– Эй, ну-ка, вернись! Я тебе говорю, а ну-ка, стой! – доносился до меня её крик.
Но я уже вышел из кинотеатра. Не успел я дойти до автобуса, она догнала меня и вцепилась в левую руку.
– А ну, покажи документы, а потом уж будешь держать, хоть с края, а хошь и из середины – как знаешь, а пока документы, да побыстрее.
– Какие документы, сударыня? А Держикраев – фамилия известного русского князя…
– Как же, как же, будет тебе князь! Да с такой фамилией и собаки не бывает! – усилила она хватку. – Ты мне зубы не заговаривай, а покажи документы, иначе я заору так, что все милиционеры города сбегутся сюда, колбасник несчастный.
Пришлось отдать удостоверение. Не выпуская руки, она изучила моё удостоверение и отдала обратно.
– Тоже мне шутник, а говорил: колбасный цех!
– Да вам-то какая разница: что институт, что мясокомбинат, коли вы не знаете разницу между Гоголем и Лермонтовым? – сказал я и улыбнулся.
Наконец-то до нее дошёл смысл шутки:
– Ах, ты вот о чём! – громко смеясь, ответила она. – Да разве всех запомнишь, все-то пишут и пишут, тьфу! – И так же громко смеясь, убежала к своей кассе.
Так что такие штучки в России бывают, и мы давно привыкли к этому.
Свободных столов было всего два – в дальнем углу зала. Остальные столы были сдвинуты в несколько групп, за каждым сидела компания из десяти-пятнадцати молодых людей, в основном женщин. Только мы сели за один из свободных столов, тут же к нам прибежала очень миловидная и раньше нами здесь не замеченная девушка с подносом и стала выкладывать на наш стол всякого рода закуски и напитки. Закончив с этим, она на английском языке пожелала нам приятного аппетита и, сказав, что горячее будет минут через двадцать, ушла. Я по-английски знал довольно сносно и мог бы общаться с ней на этом языке. Но, не владея ситуацией, считал это лишним, да и часто принимали нас за иностранцев и обращались к нам по-английски. Поэтому я подозвал её и сказал по-русски, что, видимо, она перепутала и принесла нам чужой заказ. Несколько секунд она рассматривала нас, а потом, удивлённо уронив: «разве вы…», ушла, оставив на столе целую гору закусок, большинство из которых мы не только никогда не пробовали, но даже названий не знали. Тем временем нас уже пригласили на танец. Две девушки из сидящей рядом с нами группы, как потом выяснилось, аспирантки из Федеративной республики Германии, на своём немецком языке просили нас танцевать с ними. Плотная, спортивного телосложения немка, узнав, что мы из СССР, очень удивилась и начала задавать уточняющие вопросы. Название «Азербайджан» ей ничего не говорило, но город Баку был знаком.
– О, Баку?! Нефть?! Африка! – воскликнула она на не совсем правильном английском языке.
Я сказал, что насчёт Африки она малость загнула, но в Баку действительно добывают нефть. Вообще, я давно стал замечать, что иностранные учёные при хорошем знании своего предмета, которым они непосредственно занимаются, очень плохо знают общеобразовательные дисциплины, такие как литература, история, география и прочее, не говоря уже о таких областях, как поэзия, музыка и философия. Уровень интеллектуальности этих людей намного ниже уровня обычного школьника в Советском Союзе. Профессор Калифорнийского университета Джон Бернард, за которым я был закреплён как переводчик, никак не мог поверить, что в Советском Союзе есть места, где выращивают чай, а союзные республики он считал местами сборищ дикарей, над которыми властвует Россия, как ей вздумается. Я приводил примеры, противоречащие его убеждению по этому вопросу, перечислял фамилии множества учёных нерусской национальности, которые добились значительных успехов в его же области науки, то есть в биологии. В конце концов, я говорил ему о себе, как живом примере:
– Вот я, например, азербайджанец, из обычной семьи, учился за счёт государства нашего, окончил институт, скоро заканчиваю аспирантуру, объездил весь Советский Союз да и кое-какие зарубежные государства. Разве такое возможно в США или в каких-то других капиталистических странах?
Разговор шёл в небольшом ресторане «Баку» на улице Горького, куда мы часто ходили обедать из-за высокого качества азербайджанской кухни. Он немного помялся и ответил, что и ему и большинству американцев известно, что евреи в Советском Союзе принимают различные национальности (по этническому сходству), чтобы их не притесняли. То есть по его словам выходило, что я еврей и, чтобы меня не дёргали по национальным причинам, принял подданство Азербайджана. На что я громко рассмеялся, но спорить не стал. Бесполезно, не переубедишь. Таких примеров можно привести множество.
Я, да и Сабир тоже, уже понимали, что, говоря попроще, попали не туда, но как выйти из этого положения, не знали. К тому же бесконечные приглашения на танцы не оставляли нам времени на обдумывание и поиск какого-нибудь выхода из этого положения.
Немки и англичанки, опережая друг друга, приглашали нас танцевать, спрашивали всякую всячину, но ни одного вопроса секретного характера не задавали, да и мы ничего секретного не знали. Ко мне подошла высокая и хорошо сложенная девушка и пригласила на танец. Собственно говоря, это нельзя было назвать приглашением. Она просто схватила меня за подмышку и подняла на ноги. Дальше уже было дело техники, и, когда мы оказались в гуще танцующих, она на хорошем английском языке, но с явным воронежским акцентом повествовала мне, что имеет где-то в Ирландии большой и очень красивый замок, оставшийся от какого-то прадеда по наследству. Она как можно красочней описывала этот самый замок с его приусадебным хозяйством, розами и цветами.
– Но вот незадача, – сказала она, – мне нужно ещё как минимум год находиться в Москве, а близких родственников, кто бы мог как следует присмотреть за всем этим, нет.
Далее она заметила, что, несмотря на множество предложений, она пока ещё не вышла замуж, так как такого, примерно как я, молодого и симпатичного парня, среди её ухажёров нет. Она хорошо понимает, что в Советском Союзе такие браки не приветствуются, но у неё очень обширные связи, и все трудности она уладит самым лучшим образом. Она намекала на то, что ей также по наследству остался кругленький капитал, и всё это вместе с красивым замком перейдёт на моё имя, как полноценного хозяина. От меня же требуется всего ничего – моё согласие. Конечно, она понимает, что такие вопросы быстро не решаются, поэтому согласна дать мне свой адрес и номер телефона и ждать моего ответа.
Слушая её, я вспомнил, как однажды один наш бывший разведчик разоткровенничался и сказал, что самая хитрая разведка у англичан, а самая грубая и кровавая – у нас и у китайцев. Действительно, неужели найдётся хоть один кретин, который поверит во всю эту дребедень? Увидев, что она ждёт ответа, я на русском языке, разумеется тоже с акцентом, но уже с кавказским, сказал ей, что мы сюда пришли поужинать совершенно случайно и уже сами понимаем, что лучше бы этого не делали. Но встать и уйти просто так, без причины, вроде бы неудобно, а самое главное, что у нас нет столько денег, чтобы заплатить за всё то, что нам принесли без нашего желания.
– Впрочем, мы все это не трогали, – подытожил я.
Она без всякого смущения ответила, что охотно верит мне, и если трудности в этом, то мы можем не волноваться – она нам поможет. Договорившись, мы, танцуя, подошли к нашему столу, и я предупредил Сабира, чтобы он подошёл к выходу. Также танцуя, мы приблизились к выходу и здесь попали в руки здоровых ребят, которые притащили нас в маленькую комнатушку напротив раздевалки, на двери которой под красной бархатной занавеской обозначалось, что она является комнатой дружинников.
После долгих бестолковых допросов, смысл которых сводился к тому, что будет лучше, если мы сами признаемся, на кого работаем, какие конкретно задания выполняем и прочей белиберды, они решили отправить нас боссу (так они и выразились), так как он найдёт средства, чтобы мы оба во всём признались.
Я второй раз оказался в кабинете уже знакомого нам генерала. Он не только узнал меня, но даже назвал по фамилии, удивив тем самым Сабира и наших сопроводителей. Он махнул рукой верзиле, пытавшемуся объяснить ситуацию с нашим задержанием, и, сказав им: «вы свободны», обратился ко мне:
– Как живут Кейсерманы, товарищ Алиев?
– Кейсерманы? – переспросил я. – Наверное, хорошо.
– Я вполне серьёзно спрашиваю, – сказал генерал.
Я посмотрел на него. Сомнений не было: он знает всё, но каким образом?
– Неужели и за мной следят, товарищ генерал? – спросил я, указывая на неумолкающие телефонные аппараты.
– За вами – нет, – конкретно ответил он.
– Значит… – произнёс я и умолк.
– Значит, что? – спросил он.
– Товарищ генерал, – решился я, – можно вас спросить об одной вещи, которой я не нахожу объяснения.
– Валяй, – чуть улыбнулся он.
На этот раз у него было более доброе настроение, чем в прошлый.
– Когда я был в квартире у глухой старухи, Кейсерман младший набрал в телефоне номер ноль-два. Я это видел своими глазами, а на вызов приехали ваши люди. Как это понять? Ведь не скажете же вы, что управление милиции этого района находится здесь, в подвале, да и вы не похожи на работника милиции.
– Почему ты так решил? – спросил генерал.
Я замялся.
– Мне трудно объяснить это, но по всему видно, что у вас другая организация.
Он долго молчал, смотря в одну точку, и наконец чуть слышным сквозь телефонные звонки голосом произнёс:
– Видите ли, для некоторых семей, в том числе для большинства жителей сталинских домов, существует несколько иная система обеспечения безопасности. Вас удовлетворяет такое объяснение?
Теперь мне понятно, откуда генералу была известна моя связь с семейством Кейсерман.
– А теперь, – не дожидаясь ответа, продолжал он, – зайдите в комнату напротив. Там есть человек, который покажет вам, где скоротать оставшуюся часть ночи, а утром я вас отпущу.
В комнате напротив ходил из угла в угол целый шкаф. Именно это слово больше всего годилось для характеристики этого человека. На голову у него была надета какая-то диковинка, и он, похоже, внимательно слушал её. Увидев нас, он снял с головы аппаратуру, показал нам на дореволюционный стёртый кожаный диван, на кран, туалетную комнату, на чайный прибор на полке и, не уронив ни одного слова, исчез.
Был третий час ночи. Оставшуюся часть ночи мы провели за крепко заваренным чаем. Под утро немного подремали сидя. Сабир выдвинул мысль о том, что неплохо бы угостить генерала крепким чаем, но я отговорил его от этого, сказав, что выйдет сверхнахально, если «гость» будет угощать хозяина его же добром. Утром в половине девятого нас повели к генералу. Он по-прежнему игнорировал Сабира и обращался только ко мне.
– Кто такой Баршов, товарищ Алиев?
– Баршов – заместитель директора нашего института, – ответил я.



