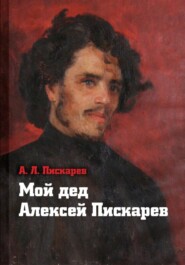скачать книгу бесплатно
– Врешь! Освободить! – бушевал зал.
И ведь освободили! 19 декабря, в канун Рождества, Панина вышла из тюрьмы. Однако товарищам по заключению она обещала провести праздник вместе с ними. Вчерашняя заключенная возвратилась в тюрьму и устроила там вечер со сценами из Евангелия, демонстрацией по репродукциям картин великих художников и литературным чтением. Комиссар тюрьмы попросил повторить эту программу на следующий вечер для мужского корпуса. Прощаясь, он снял фуражку и поцеловал графине руку.
В 1918 году С.В. Панина покинула Россию. Сначала она уехала в Финляндию, затем в Англию.
В период гражданской войны у нее появилась надежда, что все изменится, и она вернулась в Россию. В октябре 1918 года по пути из Москвы на юг, где тогда сражалась Белая армия, она увозила в чемоданчике драгоценности рода Паниных, чтобы передать их на нужды армии. На одной из станций в суете чемоданчик «затерялся».
Графиня Софья Владимировна Панина.
В 1920 году после поражений армий Деникина и Врангеля Софья Владимировна через Женеву уехала в Чехословакию, где находилась тогда значительная часть русской эмиграции. Для русских в Чехословакии благодаря президенту Чехословакии Томасу Масарику были созданы благоприятные условия для жизни (в 1927 году «русская Чехословакия» насчитывала около 90 тыс. человек). В Праге на правительственные субсидии и частные пожертвования не только были созданы русские школы и гимназии, благотворительные учреждения, но и действовали Русский юридический университет, Русский педагогический институт, Русский театр.
Панина стала лидером русской эмигрантской общины и в Западной Европе, особенно в Праге.
После прихода к власти фашистов в 1939 году Софья Владимировна Панина переселилась из Чехословакии в США и включилась в работу Комитета помощи русским эмигрантам, созданного дочерью Льва Николаевича Толстого Александрой Львовной. Софья Владимировна организовала крупномасштабную помощь для советских военнопленных, но, так как Гитлер запретил принимать эту помощь, Панина договорилась с Маннергеймом, и грузы из Южной Америки направились в финские лагеря.
Жилось Паниной в Америке трудно. Не имея собственной квартиры, она переезжала от одних знакомых к другим, в руках у нее был небольшой чемоданчик, которым, говорила она, как у чеховского маленького человека, ограничивалось все ее земное имущество.
Прожила Софья Владимировна Панина, женщина с необыкновенно доброй душой, долгую и яркую жизнь. Она умерла 13 июля 1957 года в возрасте 86 лет.
Софья Панина – первая русская женщина член российского правительства, выдающийся меценат, несомненно, то самое лицо, которое должно было, в числе немногих других исторических фигур, определять лик новой России. Всей своей жизнью она вошла в круг истинных национальных героев.
На вечерних курсах учительница русского языка Елизавета Васильевна Попова и учительница математики Юлия Александровна Беляевская особенно нас привлекали своим чутким отношением к нам и частыми беседами по вопросам, не относящимся к занятиям. В Поповой мы, пришедшие с заводов, не избалованные участием к себе, нашли воистину родную мать, так чутко она относилась к нашему бытию. Она быстро приохотила нас к усердным занятиям, к русскому языку, и развила в нас привычку и навык к изложениям, а некоторые из нас начали баловаться и стихами. Беляевская – математичка наша – очень начитанная и образованная женщина, часто вела с нами беседы на самые различные темы и впервые обратила мое внимание на вопросы истории и философии, за что благодарность ей неизъяснимая. За 4 года начального там обучения мы, – в классе нас было 15 человек, – из необузданных, часто грубиянов, превратились во вполне интеллигентных людей.
Ко времени обучения на курсах графини Паниной относится и продолжавшаяся несколько месяцев работа под руководством известного промышленника, впоследствии депутата 3-й Государственной думы (1907), Федора Михайловича Крузе. Вот что пишет Алексей Константинович.
Забавна и оригинальна была моя служба в Федоровском Золотопромышленном Обществе. Директором и совладельцем этого богатого общества был Федор Михайлович фон Крузе. Впоследствии он был и член Государственной думы, имел собственный пятиэтажный дом на углу Фонтанки и Симеоновской улицы, у цепного моста, почти против цирка. Жил богато, как Крез. При доме имел свой зимний сад и прочие все удобства.
Алексей Константинович Пискарев. Фотография. 1902 г., март.
Федор Михайлович Крузе.
Удалось найти относящуюся к 1910 году краткую биографическую справку и фотографию Федора Михайловича Крузе.
Фон Крузе Федор Михайлович (13 января 1857–?). Потомственный дворянин. Присяжный поверенный. Около 20 лет состоял депутатом от дворян С.-Петербургской губернии, гласным Царскосельского уездного и С.-Петербургского губернского земств и др. 17 октября 1907 г. избран в 3-ю Государственную думу от С.-Петербургской губернии, от съезда землевладельцев. Член фракции «Союза 17-го октября» в 3-й Государственной думе. Член Комиссий: по рабочему вопросу, по судебным реформам, по вопросу о неприкосновенности личности. Докладчик Комиссии по рабочему вопросу.
Из обрусевшего немецкого дворянского рода, православного вероисповедания. Окончил Ришельевский лицей (Одесса) и юридический факультет Петербургского университета. Почетный мировой судья. Домовладелец. Женат.
Дальнейшая судьба неизвестна.[8 - См.: URL: http://www.tez-rus.net/wiewGood30817.html.]
Семья у него была жена и красавица дочь. Дочь подарила мне свою фотографию, – она в альбоме моем, если он цел. Относились они обе ко мне хорошо. Нанят я был как литейщик, чтобы наблюдать за плавкой золота на Литейном дворе, когда привозили золотой песок из Сибири. Работать я был не должен и не мог, к золоту меня и потрогать не подпускали. Моя обязанность, поскольку я являлся представителем общества, была только наблюдать: чтобы при плавке золота было как можно меньше угара.
Не могу понять, чем я понравился фон Крузе, – принимал на работу он меня сам и явно знал, да я при нем и не скрывал, что я полулегальный. Было это года за два с половиной перед Революцией (лето 1902). Золото прибывало редко, раз 6–7 в году, в остальное время я находился официально как конторщик, а фактически не то секретарь Крузе, не то посыльный или просто денщик при нем. Занимался я в его библиотеке, находившейся рядом с его кабинетом, то есть был у него всегда под руками.
Фон Крузе был человек в высшей степени деловой и очень оригинальный. Деньги на различные расходы мне он давал, сколько спрошу, и отчета никогда не требовал, но я никогда его не обманывал. Я сразу заметил в нем одну особенность. Он терпеть не мог, не выносил, когда ему говорили «не умею» или «не знаю». По его мнению, выходило, что человек все должен знать и все уметь, и я эту его струнку учитывал и врал бесконечно, но не говорил «не знаю». Однажды дает он мне какое-то деловое письмо на английском языке и велит сделать перевод. А я латинскую азбуку знаю, но по-английски ни бум-бум. Врать тут что-нибудь нельзя, и отказываться не смею. Иду к себе в библиотеку, беру англо-русский словарь и начинаю переводить. Приношу ему мой «перевод». Легко можете себе представить, что это был за «перевод». Он улыбнулся, это было редко, взял его и ничего мне не сказал.
В другой раз посылает меня (говорил он кратко, и расспросов не терпел) к своему электротехнику на Забалканский проспект № 75 и велит его вызвать к нему. Иду я на Забалканский № 75. Там, оказывается, находятся одни склады, и никто там не живет. Проверил это досконально – действительно, не живет никто. Возвращаюсь торжествующий. «Ага, – думаю, – и ты можешь ошибаться». Прихожу, докладываю, что там никого нет, там одни склады. «Дурак, – отрезал мне Федор Иванович, – значит, Фонтанка, 75». Иду на Фонтанку, 75. Это, оказывается, угловой дом на Забалканском. Он оказался прав.
Однажды из Сибири пришел проект предполагаемой там железной дороги. Федор Иванович спрашивает меня: «Как думаешь, Васильев, какой уклон можно дать железной дороге?» Сказать «не знаю» я не мог, это значило погибнуть в его глазах, и я наобум ахнул: «Одну пятую будет достаточно». «Что ты, да ведь это гора будет», – и пошел к себе в кабинет. Потом я сам сообразил, какую чушь сморозил. Это значит на 5 верст одна верста подъема. Получается гора, и очень крутая.
Как-то он зовет меня, дает записку и говорит: «Сходи к Кинкману (магазин электрических принадлежностей на Гороховой улице), возьмешь по записке принадлежности и отвезешь все ко мне на дачу на Сиверской, там тебя встретят». Пошел к Кинкману, взял там все, что выписано было, – связали мне две корзиночки, – и отправился на вокзал. Сажусь в вагон и думаю: «заеду, а Сиверская велика, кто там знает, где дача фон Крузе, а встретит кто? Меня не знают, и я никого». В таком нерешительном раздумье доехал до Сиверской.
Удалось найти историческую справку, относящуюся к усадьбе Крузе.
При помещике Марке Николаевиче Быкове из состава вырского поместья была образована самостоятельная усадьба «Песчанка», созданная в конце XIX века по соседству с деревней Грязно. Само ее название указывало на местоположение – песчаный береговой обрыв реки Оредеж, окруженный сказочно красивым сосновым бором. Появление «Песчанки» открыло дачную историю этой местности: усадьба была распродана отдельными участками, самый обширный из которых приобрел присяжный поверенный барон Федор Михайлович фон Крузе. Сохранилось подробное описание «Песчанки» 1910 года и усадьбы фон Крузе: «На крутом песчаном берегу Оредежа среди леса находится усадьба владельца с господским домом, представляющая собой в архитектурном отношении большую художественную ценность. Особенно замечательны фасады, дом в древнерусском, вполне выдержанном стиле, с прекрасными архитектурными линиями, затейливыми башнями и переходами. В таком же выдержанном стиле возведены и остальные хозяйственные постройки. Чтобы составить себе понятие о степени роскоши упомянутой усадьбы фон Крузе, достаточно сказать, что оборудование усадьбы обошлось ему в 300 000 рублей, одна купальня на берегу Оредежа стоит 11 тысяч рублей. Вблизи усадьбы расположено несколько дач, отдаваемых на лето в наем. Прекрасная сухая местность, близость реки, обилие леса, тишина и отсутствие пыли создали из этого, хотя и отдаленного места удобный уголок для дачного пребывания». Сохранились фотографии усадебных построек и оригинального павильона-купальни, возведенного в модном тогда стиле модерн.
Выхожу из вагона на платформу, народа много, а встречающих, как и полагал, никого. Платформа опустела, народ разошелся, остался я один, хожу с корзинками в руках. Вдруг подходит ко мне некто, в золоченой ливрее, швейцар, похоже.
Спрашивает меня: «Вы от Федора Михайловича?» – «Да», говорю. – «Ну, так, пожалуйста», – и повел меня на двор.
Смотрю, карета – дверцу открывает этот швейцар: «Садитесь, пожалуйста». Я сел в карету, и она покатилась. Ехали верст 6, на реке Оредеж стоит великолепная дача, и тут же на реке электростанция своя, фон Крузе, значит. Передал корзиночки. Выходит его жена, приветливо говорит: «Ну, приехали, пойдемте, помоетесь и к обеду выходите». Отвела меня в комнату, мраморный умывальник стоит и на нем кувшины: один с прозрачной водой, а другой с розовой. Для чего употребляется розовая вода, не знаю, но, чтобы показать вид, что и я ею пользоваться умею, отлил немного в ведро, вымылся и выхожу в столовую. Огромный стол уставлен всевозможными яствами и винами, за столом сидит хозяйка, а в дверях – чернокожий лакей, глядит буркалами, точно съесть хочет. Он своим видом смущал меня больше всего.
Сел за стол. Хозяйка угощает: «Закусите, пожалуйста». Налил себе вина – ну пьют-то все одинаково, – а вот как приступить к закуске, не знал. На столе было множество разных ножей – и гнутых, и прямых, длинных и коротких – и вилок самых разнообразных форм. Я был в недоумении, не зная, как и чем есть, чтобы не выдать неловкости. На столе стояли какие-то похожие на сливы ягоды, и я решил закусить ими, поддев себе на тарелку ложкою. Взял в рот, чую, – чистейший керосин. С трудом я проглотил одну. Хозяйка же, видимо заметив мое смущение и неловкость и сказав: «Ну, мне нужно там по хозяйству», – вышла и увела стоявшего в дверях чернокожего лакея. Оставшись один, я уже наелся без стеснения, чего душа хотела. Потом я узнал, что проглоченная ягода с керосином, как мне показалось, была маслина. С тех пор, проходя мимо гастрономических магазинов и видя выставленные в окнах маслины, припоминал, как я впервые пробовал их.
Годы обучения на курсах графини Паниной оказались переломными в судьбе Алексея Константиновича. Он понял, что свою судьбу можно делать своими руками. И уроки русского языка и литературы нашли в его лице благодарного и восприимчивого слушателя.
Через четыре года мы сдавали экзамены по программе среднего учебного заведения, и снова возникло желание продолжить нашу учебу. Нелегально, опасаясь, что нас накроют, мы продолжали занятия по математике, русскому языку, физике и химии и географии. Об одном из наших новых преподавателей стоит сказать особо. Это был Всеволод Михайлович Эйхенбаум, сначала студент университета, затем политический каторжник, осужденный по делу эсэров на 25 лет каторги, закончивший свою политическую деятельность политическим руководителем украинского вождя и главы бандитов Махно и погибший, не знаю, при каких обстоятельствах. Эйхенбаум был на диво способный и талантливый человек. Впоследствии я часто сравнивал его с Троцким по красноречию, с той только разницей, что в выговоре Троцкого чувствовался еврейский акцент. Эйхенбаум, тоже великолепный оратор, отличался тем, что в каждом слове казался русским человеком. Это подтверждалось в каждом обороте его выговора. Например, говоря слово «что», он произносил «што», и всей своей речью подражал выговору простого человека, отчего она приобретала особую привлекательность.
Всеволод Михайлович Эйхенбаум.
При жизни Алексея Константиновича не было Интернета, да и газеты не наполнялись «излишней» для народа информацией. А вот что мне удалось почерпнуть из Википедии об этом учителе, ровеснике деда, имевшем на него столь сильное влияние.
Эйхенбаум Всеволод Михайлович (11 августа 1882– 18 сентября 1945), больше известный под псевдонимом Во?лин, – российский анархо-коммунист. Брат литературоведа Бориса Эйхенбаума.
Родился в Воронежской губернии, в семье врача, после окончания гимназии переехал в Санкт-Петербург, чтобы учиться на юриста. В 1904 году покинул университет, вступил в партию Социалистов-революционеров и присоединился к революционному рабочему движению.
Занимаясь просветительской деятельностью в рабочей среде, Волин познакомился с Георгием Гапоном и принял участие в демонстрации рабочих в Кровавое воскресенье, что радикализировало его взгляды. Во время революции 1905 года вместе с Георгием Носарём принял участие в создании первого Совета рабочих депутатов, в результате чего был арестован. После побега из-под ареста в 1907 году Волин эмигрировал во Францию, где в 1911 году присоединился к небольшой анархистской группе Аполлона Карелина.
Во время Гражданской войны в России Волин принимал участие в деятельности федерации украинских анархистов «Набат» и тесно сотрудничал с Нестором Махно. Однако в отличие от Махно Волин был прежде всего интеллектуалом, предпочитавшим пропаганде действием пропаганду словом. В 1920 году он был арестован большевиками, но вскоре выпущен, по соглашению советского правительства с Махно. Вскоре последовал повторный арест, из-под которого Волина освободил съезд Профинтерна, часть делегатов которого выступила за амнистию анархистов. После этого Волин был выслан из страны. Живя некоторое время в Берлине, он написал ряд работ по истории анархистского движения в России, а также перевел на немецкий язык и снабдил предисловием «Историю махновского движения» Петра Аршинова. Через некоторое время Волин получил приглашение в Париж от Себастьяна Фора, где принял участие в работе над анархистской энциклопедией.
Перед войной умерла его жена. Фашистская оккупация Франции вынудила Волина скрываться и часто менять место жительства, в результате чего у него обострился застарелый туберкулез. В сентябре 1945 года Волин скончался. Главный труд его жизни – «Неизвестная революция» – был издан уже посмертно.
Да, учителя в Народном доме графини Паниной были, действительно, незаурядные!
С первых же дней занятия по русскому языку походили на курсы революционной пропаганды, и через две недели мы стали революционерами в самом настоящем смысле этого слова.
Как видим, благие пожелания Паниной о запрете на политику на организованных ею курсах были все же не выполнены.
Видимо, к периоду обучения на курсах относятся стихи А. К. Пискарева, опубликованные позднее. Простыми словами показаны идеалистические цели борьбы многих революционно настроенных молодых людей его времени.
Мы завоюем мир оружием бескровным.
Кто опровергнет силу наших слов?
Мы торжеством закончим безусловным
И мир освободим от лжи и от оков.
Мы перестроим жизнь, и новые законы
Получат истина, и красота, и труд…
В преданье отойдут страдальческие стоны,
И жизнью радостной народы заживут.
Являем мы свое великодушье…
Мы повторяем: крови не хотим,
Но в крайности возьмемся за оружье, —
Готовы к бою мы, в бою мы победим!
Стачечное движение. 9-е января 1905 г
Переходя к воспоминаниям Алексея Константиновича Пискарева о ключевом событии русской истории – Кровавом воскресенье 9 января 1905 года, нанесшем смертельную рану российскому самодержавию, нельзя не предварить эти воспоминания описанием сложившегося к этому моменту общего положения в Российском государстве и настроений в российском обществе, существовавших почти год с начала русско-японской войны.
В 1898 году Россия фактически отобрала у Японии Ляодунский полуостров, что привело к волне милитаризации Японии, направленной против России. И это несмотря на то, что Япония получила от России огромную компенсацию – около 400 млн рублей серебром.
В 1903 году спор из-за русских лесных концессий в Корее и продолжающейся русской оккупации Маньчжурии привел к резкому обострению русско-японских отношений. Несмотря на слабость российского военного присутствия на Дальнем Востоке, Николай II не пошел на уступки, так как для России ситуация, по его мнению, была принципиальна: решался вопрос о выходе к незамерзающим морям и о преобладании на относительно слабо заселенных просторах Маньчжурии. Япония стремилась к полному своему господству в Корее и требовала, чтобы Россия очистила Маньчжурию. Избежать борьбы с Японией Россия могла лишь путем самоустранения с Дальнего Востока. Частичные уступки, которых было сделано немало (в том числе задержка отправления подкреплений в Маньчжурию), не смогли не только предотвратить, но даже отсрочить решение Японии начать войну с Россией, в которой Япония и по существу, и по форме стала нападающей стороной.
В конце декабря 1903 года Главный штаб в докладной записке Николаю II обобщил всю поступившую разведывательную информацию: из нее следовало, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждет лишь удобного случая для атаки. Кроме реальных доказательств неизбежности войны, русская военная разведка смогла установить и практически точную дату ее начала. Однако никаких экстренных мер со стороны Николая II и его окружения так и не последовало. Нерешительность высших должностных лиц привела к тому, что ни один из планов подготовки кампании против дальневосточного соседа, составленных А. Н. Куропаткиным, Е. И. Алексеевым и Главным морским штабом, не был осуществлен до конца.
Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русской эскадры и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года. В мае 1904 года, используя бездействие русского командования, японцы провели высадку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией.
Борис Рейн в своих воспоминаниях писал: «Исполнилось мне восемь, когда началась русско-японская война. Видел я на Забалканском (ныне Московском) проспекте патриотические манифестации с трехцветными флагами и хоругвями, под охраной городовых. Разношерстная толпа кричала „япошек шапками закидаем“ и пела „Боже царя храни“…».[9 - Рубинштейн Б. В. (Борис Рейн). Повесть о старом Петербурге. Л., 1971–1975.]
Значительной частью российского общества владело чувство изначального превосходства над «азиатами». Можно заглянуть в дневник А.И. Гончарова «Фрегат Паллада» и удивиться, насколько сильным оказалось предубеждение и насколько поверхностными собственные наблюдения и оценки уровня развития Японии, сделанные знаменитым писателем в 50-е годы при посещении этой страны. Уже в то время Япония по уровню грамотности превосходила самую передовую европейскую страну – Англию. Оказалось, что при высоком уровне общего развития населения овладение современной техникой – дело двух-трех десятилетий. В 1859 году, когда японское общество пришло к мысли, что техническое отставание неизбежно превратит их страну в европейскую колонию, Япония резко изменила систему организации образования и промышленности и быстро вошла в ряд промышленно развитых стран.
По-видимому, многие в России не заметили происшедших перемен. Отсюда и пренебрежительный тон многих публикаций на начальном этапе войны. Не говоря уже о публикациях просто неприличных (на что в то время указывала передовая печать), например:
Подожди-ка, желтый леший,
Понаделаю я брешей
И пробоин и щелей
В сердце ваших кораблей!
И давай стрелять из пушек
В желтопузых, как в лягушек.
Взвыли черти: «Ой! Ой! Ой!»,
Два их судна под водой!
Снова лезут, кто их знает!
Ведь на свете все бывает.
Шавка, помнится, одна
Все бросалась на слона.
Вот и эти скоморохи
Лезут, прыгают, как блохи;
Из поганой их земли
Снова вышли корабли
И плывут, ну, прямо, сдуру,
К неприступному Артуру.
Неприступный наш Артур
Смотрит, сумрачен и хмур.
Подождите же, мартышки,
Понаставлю я вам шишки!
И как хватит вдруг, – ба-бах!
Вмиг вогнал поганых в страх!
Испугавшись русской порки,
Убежали черти в норки…
(Ведомости. 1905, апр.).
Овладеть Порт-Артуром японцам, несмотря на активные действия, в начале войны не удалось. 6 августа на штурм крепости была брошена 45-тысячная армия. Встретив сильнейшее сопротивление и потеряв более половины солдат, японцы отступили. Однако 20 декабря 1904 года крепость была сдана. Порт-Артур стоил противнику колоссальных жертв. Японская армия, действовавшая на Квантунском полуострове против русской крепости, потеряла за время осады свыше 110 тыс. человек, из них до 10 тыс. офицеров. Генералу Стесселю было предъявлено обвинение, что он сдал крепость японским войскам, не употребив всех средств для дальнейшей обороны. Впоследствии это обвинение было фактически дезавуировано.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: