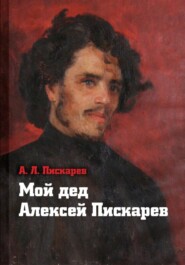скачать книгу бесплатно
«Вот этот-то бесконечный карантин, – „канарейка“ чиновников, – и ожесточил беднейшее рабочее население слободок: Корабельной; Артиллерийской и некоего „Хребта беззакония“ (меткое название!), которого ныне уже нет и в помине. Дело было в том, что главное население этих слободок, – семейства матросов действительной службы и отставных, – жило летними работами в окружающих Севастополь хуторах, карантин же отрезывал им доступ на эти работы, обрекая их тем самым на голод зимой. Кроме того, замечено было, что через линию карантина отлично пробирались жители собственно Севастополя, главным образом офицерство: для них, значит, существовали особые правила; они, значит, передать чуму дальше, на север, никак не могли. Карантинные же и полицейские чиновники получали по борьбе с чумой особые суточные деньги – порядочную прибавку к их жалованью. Кроме того, на их обязанности лежало снабжать продовольствием жителей „зачумленных“ районов, а чуть дело дошло до „снабжения“, тут уж чиновники не давали маху. Они добывали где-то для этой цели такую прогорклую, залежалую муку, что ее не ели и свиньи. Кроме карантинных и полицейских чиновников, хорошо „питались чумой“ и чиновники медицинского ведомства, которые, конечно, и должны были писать в бумагах по начальству, что чума не только не прекращается, но свирепствует все больше и больше, несмотря на принимаемые ими меры.
Какие же меры принимались этими лекарями? …И для того жестокого времени меры эти кажутся невероятными.
Подозреваемых по чуме (так как больных чумой не было) отправляли на Павловский мысок, и на это место, по рассказам всех, кто его видел, смотрели, как на готовую могилу. Чума – болезнь весьма скоротечная, но там умудрялись держать „подозрительных“ даже и по два месяца, а был и такой случай, когда держали целых пять месяцев!
Большинство умирало там, так как не все же были такие исключительные здоровяки, чтобы выдерживать режим мыска месяцами. А так как туда отправлялись не только подозрительные по чуме, но и их семейства полностью, до грудных детей и глубоких старцев, то часто вымирали там целые семьи».
«Народ терпел все издевательства над собою больше года; наконец терпение его лопнуло. Народ восстал… Восстание разразилось в начале июня 1830 года…
…Один из вожаков восстания – Кузьмин – обучал пешему строю матросов на узеньких уличках Корабельной слободки…
Было всего три отряда восставших: первый – под командой квартирмейстера Тимофея Иванова, которого можно считать самым авторитетным лицом среди вождей восстания; второй – под командой яличника Шкуропелова, отставного квартирмейстера, и третий – под командой Пискарева (выделено здесь и далее мной. – А. П.), унтер-офицера одного из флотских экипажей.
Восставшими были убиты генерал-губернатор Севастополя Столыпин, один из карантинных чиновников Степанов, который особенно обирал жителей слободки и, не выдавая им сена на лошадей, скупал тех, отощавших, за полнейший бесценок, и еще несколько чиновников.
От коменданта города, генерал-лейтенанта Турчанинова, восставшие взяли расписку, что в Севастополе чумы не только нет, но и не было. Такая же расписка была дана в соборе и протопопом Софронием…
Вооруженные восставшие представляли собою довольно внушительную силу, но на них вели пять батальонов солдат, которые стояли раньше в оцеплении у Корабельной слободки.
Однако, когда полковник Воробьев, который их привел, приказал им стрелять по восставшим, несколько человек выстрелило вверх – и только.
Тогда матросы кинулись на фронт солдат, вырывали у них ружья и кричали:
– Показывайте, где у вас офицеры-звери: мы их сейчас убьем!
Полковник Воробьев был выдан солдатами и убит, а одного из своих офицеров, штабс-капитана Перекрестова, солдаты даже расхвалили, будто он был для них очень хорош.
Вожаки восстания ухватились было за этого штабс-капитана, не примет ли он над ними главного командования, но Перекрестов отказался. Это очень ясно показывает, что ни Кузьмин, ни Иванов, ни Пискарев, ни Шкуропелов не представляли, что им делать дальше, после того как они захватили власть в Севастополе…
Коротко говоря, восстание было скоро подавлено, и началась царская расправа…
Семь человек были приговорены к расстрелу; среди них Иванов, Пискарев, Шкуропелов».[2 - Сергеев-Ценский С. Н. Севастопольская страда. Т. 1. М.: Советский писатель, 1950.]
Яркая картина жизни и обычаев нашей страны, тех процессов, последствия которых мы видим, ощущаем и почти двести лет спустя! И роль Пискарева очень похожа на роль, сыгранную моим дедом в его собственной жизни.
Полученные мною совсем недавно из Севастополя архивные документы со всей очевидностью свидетельствуют, что расстрелянного в 1830 году Пискарева звали Федор и кровным предком Алексея Константиновича он никак не является. Остается только родство по духу и, во многом, по судьбе.
Так что, скорее всего, Алексей Степанович закончил свою жизнь все же на бастионах во время Крымской войны, будучи к тому времени уже весьма немолодым человеком.
Василий Алексеевич Пискарев, прапрадед (1820(?)—1890)
Хозяином семьи при слепой матери остался Василий Алексеевич, которому тогда было немного более 10 лет. Из дворни их отлучили, и семья из трех братьев, – другой Владимир, а третьего имя забыл, – занялась хлебопашеством. Старики рассказывают, как Василий Алексеевич, старший, пахал землю. Едва видно его, – идет за сохой. Старается, бедняжка, а дело идет плохо. Идешь мимо, бывало, поможешь ему, – да некогда, свое дело делать надо. Но все-таки надел был распахан, а заборонить – дело легкое, и ребенок, шутя, сделает.
Половина сознательной жизни Василия Алексеевича Пискарева пришлась на период крепостного права, а вторая половина проходила после его отмены. Интересно проследить, какие перемены в положении крестьянства происходили в это время в центральной России. Тогда становится понятнее, как вписывается в эту историческую действительность изложенная ниже краткая хроника жизни В. А. Пискарева и его потомков.
Московская губерния, вместе с дюжиной других верхневолжских и центральночерноземных губерний, представляла собой ядро Российской империи, – ядро, сформировавшееся еще в средние века. В начале XIX века власть помещиков над крепостными в этих губерниях была безграничной. Крестьян могли продавать и дарить, заставлять от зари до зари работать, жестоко наказывать за провинности, по усмотрению помещиков. Война 1812 года показала, что покорность крестьян была кажущейся. Крепостные, в массе, не мирились со своим рабским положением, и при малейшей дестабилизации и ослаблении власти, как это и было в 1812 году, были готовы обратить свои силы против помещиков.
Опасность возникновения крестьянских восстаний, также как и понимание передовыми людьми аморальности сохранения для крестьян полного бесправия, побуждала правительство предпринимать определенные шаги для улучшения положения и, в конечном счете, освобождения крестьян.
При Николае I приняты законы, которые запретили продажу крестьян на публичных аукционах, продажу крепостных с разделением членов одой семьи. Был также установлен определенный контроль за наказаниями, которым помещик мог подвергать крепостных. Однако все проекты освобождения крепостных не доходили и близко до реализации, так как все понимали, что освобождение должно сопровождаться наделением крестьян землей. А вот отдавать даже часть своей земли помещики совсем не хотели.
Правящий дворянский класс противился также и широкому распространению в России образования, правильно понимая, что с грамотными крестьянами он будет вынужден выстраивать отношения совсем другого рода. Забегая вперед, можно сказать, что в этом правящий класс вполне преуспел, сдерживая образование крестьян до самого конца своего существования. Еще Ленин, готовившийся использовать дикую силу крестьянской среды и потому изучавший ее, писал в 1912 году, что 70 % российских крестьян остаются неграмотными. В то же время среди американских негров, освобожденных от рабства в одно время с российскими крепостными, к 1912 году оставалось только 44 % неграмотных.
Итак, несмотря на полное понимание представителями новой русской цивилизации, сформировавшейся в 30-е годы XIX века, невозможности сохранения прежнего положения низших слоев общества, реально для изменения этого положения делалось очень мало.
Тяжелым ударом по авторитету русского правительства и по укладу русской жизни в целом была Крымская война. Не пережив поражения, Николай I умер при обстоятельствах, похожих на самоубийство, и обстановка в стране была такова, что правительство боялось нового крестьянского восстания.
Правящий класс, к которому Александр II обратился с призывом взять на себя инициативу проведения реформы, и тут оказался не в состоянии это сделать. Тем не менее в 1861 году «воля» крестьянами была получена. В центральных губерниях России доля крепостных крестьян в населении составляла в среднем 60 %. И вот для этого неграмотного, дикого, по своей сути, населения началась совсем другая жизнь.
Владение землей стало доступным. Но ее у крестьян было мало, за нее надо было платить выкуп, и к тому же право владения принадлежало крестьянской общине, проводившей регулярные переделы. Да и как было отдать землю в полную собственность неграмотным людям, об образовании которых никто не позаботился, а многие даже препятствовали этому. Немного нашлось последователей у гения русского народа А.С. Пушкина, который еще за 30 лет до реформы Александра II провозгласил «просвещение» как единственный рецепт избавления от бед русского общества.
Конечно, в просвещении низовых масс определенные сдвиги происходили. Реформа воинской повинности 1874 года вместе с заменой 25-летнего срока воинской службы на 6-летний предполагала и начала общего образования для призванных рядовых.
Главная беда российских крестьян второй половины XIX века состояла в том, что при быстром росте их числа земля не могла их прокормить. Крестьяне в центральных областях России не имели реальной возможности улучшить условия своей жизни. Большая часть русского народа жила в нищете, а в неурожайные годы положение становилось катастрофическим.
Люди в поиске лучшей доли уходили из деревень в города. После открытия в 1851 году железной дороги Петербург—Москва масштабное железнодорожное строительство, где работали десятки тысяч крестьян, стало одной из характерных черт русской жизни. Многие становились рабочими на фабриках, хотя и страдали от двенадцатичасового рабочего дня, низкой зарплаты, скудного питания и плохих жилищных условий.
Вот тот фон жизни низших слоев российского общества, на который накладывается описание, сделанное А. К. Пискаревым как по собственным воспоминаниям, так и по собранным им свидетельствам очевидцев.
Жили дети очень бедно, пока не подросли. А потом Василий Алексеевич сделался, можно сказать, передовым крестьянином. Никто, по рассказам стариков, раньше его ничего делать не начинал. Вся деревня глядела, когда Василий Алексеевич начнет, – пахать ли, косить ли, урожай убирать. Был он очень уважаемым человеком в деревне. Каким он видным человеком по деревне был, и я припоминаю, хотя мне было всего 7 лет. Дед Василий прилежный был работяга. Я хорошо помню, всегда он что-нибудь делал: то изгородь городит, то деревья на своей усадьбе рассаживает, – и неизменно поет песню. Голос у него, я помню, был не сильный, но звучный и очень приятный. Бывало, он пашет, пошлют ему завтракать. Я несу и слушаю: где его голос раздается, на голос и иду. Без пения я и сейчас его не представляю.
Любовь к пению передалась многим потомкам В. А. Пискарева. И его правнучка, моя мать, рассказывала мне, как 15-летней девушкой уходила в поле и пыталась петь. У нее, увы, ничего не получалось. Но ее двоюродные сестры были актрисами музыкальных театров. И очень многие Пискаревы разных поколений проявили себя как талантливые музыканты. Правнук В.А. Пискарева Игорь Борисович Пискарев, заслуженный артист России, более двадцати лет был главным дирижером театра Музкомедии в Петербурге.
Меня он любил больше всех внуков и своих детей от второй жены, Машки и Ваньки, которые были немного старше меня. Хотя дома был ко всему очень строг, и все его боялись. Дома он не пьянствовал, в кабаки не ходил, но когда ездил в Москву – корье возил, сено или дубки, – а это было нередко осенью или зимой, – то, как правило, возвращался мертвецки пьяный. Все домашние – жена Пелагея, моя мать и другая сноха – ожидали его со страхом, ибо, приехав пьяный, он буянил и бил всех ременными вожжами. Жена, да и снохи, обычно пряталась, и, когда они из избы исчезали, он начинал ласкать и кормить лакомствами, которые привез из Москвы, особенно меня как любимчика и остальных детей, которых никогда не бил.
Свою первую жену, которую, как теперь я припоминаю, звали Матрена, за ее строптивый нрав он, говорят, пьяным убил. Убил он свою жену, по рассказам стариков, во время скандала и безнаказанно женился на другой жене Пелагее. Фамилия Матрены была Мегачурова, и моя мать, как мы расшалимся, а нас было много, пять братьев и две сестры (остальные несколько человек братьев и сестер умерли в раннем детстве), унимала нас и говорила: «Ну, вы, Магачуры проклятые, уйму на вас нет!».
Мой отец и его братья часто вспоминали о своей погибшей матери очень сочувственно, они любили ее, по-видимому, за доброту к своим детям.
Бабка Пелагея, которую я хорошо помню, – вторая жена деда – тоже была сердитая и в обиду себя даже пьяному деду не давала. А на битье, когда он пьяный начинал драться, давала сдачи и, наконец, убегала к соседям. Умер дед Василий около 70 лет, сильно простудившись при поездке в Москву, откуда возвращался, конечно, пьяный.
Братья деда Василия – Владимир и имени другого не помню, – после объявления воли в 1861 г. уехали в Орехово-Зуево на фабрику. У деда Василия было детей живых четыре сына и две дочери. Из дочерей старшая, Марфа, вышла замуж и жила в Киеве, младшая, Мария, последнее время жила в Подольске. Все сыновья стали мастеровыми. Старший Василий был меднолитейщиком, работал в Москве; следующий по старшинству сын Алексей был большой лентяй (и потому считался дураком), работал в Москве на ситцевой фабрике; сын Константин, мой отец, был шляпником-фетровщиком.
Младший сын Иван (от второй жены деда Василия) был очень неглупый человек. Во время войны 1914 г. с немцами служил в армии и имел Георгиевский крест за храбрость. Жил в деревне и был токарем по дереву, был очень искусный игрушечник. У меня где-то была брошюрка «Кустари Московской губернии». Там о нем писали, что он является организатором артели кустарей-игрушечников. У него было два сына, Иван и Алексей. Иван жил в Москве, куда он, больной, хромой от рождения, переселился из Беляево. Продал наследственную хату и поселился на станции Гривны близ Москвы.
У Алексея был сын Платон. Погиб во время гражданской войны, убитый где-то на Волге.
Это все, что мы знаем сегодня про Василия Алексеевича Пискарева. Как можем судить о нем? Искусный крестьянин, хороший мастеровой, добрый дедушка. Но – женоубийца, воровал хозяйские дубки, подспудно чувствуя свое право на часть помещичьей собственности. Как видим, все это не мешало уважительным отзывам о нем его современников.
Немного прошло времени с той поры, и ничего удивительного, что и у многих людей, населяющих современную Россию, сохранились схожие понятия и образ жизни.
Переезд в Петербург. Константин Васильевич, Пелагея (Поля), дети, пьянство. «Цветочная улица»
Итак, Константин был третьим сыном Василия Алексеевича и родился он, по косвенным расчетам, около 1860 года. Вот что пишет о нем моя мать Нина Алексеевна Пискарева.
Мой дед – Константин Васильевич Пискарев – приехал в С.-Петербург в 90-х годах XIX века. Он был потомком крепостных крестьян семьи графов Толстых, а точнее – из деревни Беляево, принадлежавшей сестре Льва Николаевича Толстого. Приехал в Петербург с женой и тремя детьми, из которых старшему – моему отцу – было 7 лет. Работая в шерстеваляльной мастерской, Константин Васильевич обучился грамоте – чтению и письму. Потом стал мастером и сделал какое-то изобретение, значительно улучшавшее качество фетровых изделий.
Константин Васильевич Пискарев. Фотография. Начало 1900-х гг.
Алексей Константинович долгое время жил вместе со своим отцом и его семьей и оставил о нем множество разнообразных воспоминаний, написанных в основном уже в послевоенное время.
Отца моего Константина Васильевича я часто вспоминаю и представляю себе в памяти человеком высокого роста, сильного грудью и с могучими руками. Он часто бывал пьян и увлекался карточной игрой, но работал много, избрав с детства своей профессией тяжелый, утомительный и, главное, профессионально вредный труд фетровщика.
Он был не чужд стремления содействовать моему духовному воспитанию, конечно, в понятной ему ограниченной сфере, и, мне кажется, придавал этому значение очень большое. Он был неграмотный совершенно, но в период своей трудовой жизни научился писать. И я очень жалею, что у меня не сохранились образцы каракулей, которые он старательно выводил, когда являлась к тому надобность.
Отец очень любил пение. Сам он обладал густым басом, но каким-то придушенным, очевидно, в результате своей вредной удушливой профессии, и любил ходить в церкви, в которых ранее певали прекрасные хоры певчих. И меня 7–8-летнего ребенка всегда брал с собой. Я не разделял и не понимал страсти моего отца, хотя он непонятными для меня словами старался объяснить и внушить мне красоту пения. Для меня, не понимающего этой привлекающей отца красоты, посещения церковной службы составляли мучения, и я рассматривал это как пытку, созданную отцом специально для меня. Потому скоро, едва приобретя некоторую самостоятельность, то есть когда подрос немного, я возненавидел церковь и поповское пение, зачастую гнусавое.
Его необыкновенную любовь и страсть к пению я понял, будучи уже взрослым, и сейчас не удивляюсь этой страсти отца. В то время во многих церквях существовали великолепные хоры певчих с прекрасными голосами. Говорят, что в этих хорах участвовали артистки театров, которые пели прекрасно, руководимые хорошими регентами – руководителями этих хоров. В пример можно привести хор в церкви Технологического института, где пели исключительно артисты и который мы с отцом посещали особенно часто, церковь Новодевичьего монастыря, где пел хор монахинь, Казанский Собор, хор Исаакиевского Собора, который тоже славился пением и был у отца излюбленным. Эти и многие другие церкви, любимые отцом, посещались нами очень усердно.
Особенно он любил Страстную неделю и распеваемые в это время песнопения. Многие он знал наизусть и часто распевал, работая в мастерской. Я до сих пор помню «На реках Вавилонских». Эти медленные грустные песнопения отца волновали мою душу.
Отец много и часто пел слегка надтреснутым, но хорошим чистым басом. Вот отрывок из песни, которую, как я помню, он распевал, когда был пьян:
Начальник батареи
Подставил грудь свою,
Ребята не робейте
Не страшна смерть в бою.
И после каждого куплета песни повторял припев:
Горные вершины,
Я вас ли вижу вновь,
Балканские долины,
Кладбище удальцов.
Когда же становился пьяным совершенно, то, склонив голову низко к коленям, пел:
Кину, брошу мир,
Пойду в монастырь.
Я там буду жить,
Монахам служить.
Я построю там келью новую,
Келью новую трехоконную.
И так далее.
Эта песня предвещала конец его пьяного буйства, и что он скоро угомонится и заснет.
Отец, любя пение и песни, пел и работая в мастерской, и предпочитал петь при этом песни с историческим содержанием. Часто пел песню «Ермак», и особенно любил один куплет, который повторял несколько раз с особенным чувством:
Кто жизни не щадил своей,
В разбоях злато добывая,
Тот должен думать ли о ней,
За Русь святую погибая.
Константин Васильевич и Пелагея Семеновна Пискаревы. Фотография. Конец 1890-х гг.
Патриотом он был страшным, и, видимо, этот куплет особенно воодушевлял его патриотическое чувство.
Необузданной страстью отца были карты. Играл он часто и, видимо, часто проигрывал свой небольшой заработок. Особенно мне памятен случай, когда отец, проиграв все, что мог, пришел домой, достал из-под кровати сапоги и, несмотря на плач и причитания матери, понес их, чтобы отыграться. И, конечно, все проиграл.
Мы каждый раз с тоской ожидали возвращения отца. Бывало, еще с улицы услышим пение пьяного отца и стараемся выпроводить мать прятаться у соседей, зная привычку отца требовать денег на выпивку и, конечно, драться с матерью.
Помню: отца нет, – он или пьянствует, или играет в карты. Мы, дети, сидим печальные, ждем отца, заранее жалея мать. Боимся, что отец, придя, будет ее бить. Мать нас утешает, а сама тоже едва не плачет. Но вот на улице, вдали заслышался отцовский голос, – идет и поет свою неизменную в пьяном виде песню: «Начальник батареи…»
По напеву мы уже решали, что отец идет буйный. Пьяный, он придирался к матери, которая обычно не давала ему денег, что и служило причиной скандала. Как правило, дело доходило до драки. Он бил мать, если она не успевала скрыться. Нас ребятишек было много, и сцены драк с матерью возмущали нас необыкновенно. Мы начинали плакать. Нас детей он не трогал.
Но отцу пришлось отучить себя от привычки драться с матерью. Случилось это, когда я уже подрос, и однажды, когда отец стал скандалить с матерью, я схватил утюг и бросился на отца с утюгом.
Я этого случая не помню, но брат Василий рассказывал мне, что он необыкновенно запечатлелся в его памяти. Я уже работал, мне было лет 12. Однажды отец, придя пьяный, полез к матери драться. А я схватил утюг и бросился на пьяного отца, намереваясь его ударить. И только мать удержала меня от этого намерения. Брат Василий говорил: «Смотрю я на вас, а вы как Давид и Голиаф. Стоите один против другого. Отец (а он был большого роста и богатырского сложения) – большой, плечистый и недоумевающий. И ты – худенький и маленький, со злобным лицом и большим чугунным утюгом, готовясь поразить им своего противника». Этот случай произвел на отца впечатление неотразимое. Драться он перестал, видимо осознав, что у матери теперь есть заступник.
После этого случая в семье отношения как-то изменились. Вместо обычных «Костянтан», как называла мать отца, и «Полюха», как звал отец мать, отец стал называть ее просто «мать», как бы тем подчеркивая то, кем они являются в семье, и что, кроме него, в семье есть дети, для которых она мать, имеющая в детях себе прочную опору, а не небрежная «Полюха», имевшая значение только для него. Мать тоже стала называть его «отец», что также как бы подчеркивало, что он является ей не только мужем, но, прежде всего, отцом семьи. Не думаю, чтобы отец и мать отдавали себе отчет в психологии изменения их взаимоотношений. Случилось это само собой, вследствие происшедших в семье изменений. Я становился материально сильным, значимым в семье, и это решило то, что фактически случилось в семье. Даже в глазах часто пьяного отца поднималось ее значение как матери литейщика.
Жили мы, уже большая семья, исключительно благодаря практичности матери. Она дни а, часто, и ночи стригла лису, то есть покупала у скорняков обрезки мехов и старые меха и состригала их пух, который затем употребляла для валки валеных изделий высшего сорта, например валеных сапог лисьего пуха, необыкновенно теплых. Мы, ребятишки, помогали ей, просиживая за такой работой часто и ночи.
Расскажу теперь о себе, расскажу довольно подробно, оно очень поучительно в том смысле, что не нужно так увлекаться, ибо хоть и говорят, что увлечение есть промысел Божий, но мне этот промысел Божий исковеркал всю жизнь, и вот я живу остаток жизни у разбитого корыта. А факт, и вы с этим согласитесь, имей я в жизни поменьше увлечений, не слишком задаваясь, как безрассудно задавался я, моя старость была бы покойней, чем она есть. И мой совет моим потомкам: не увлекайтесь и будьте довольны тем немногим, что есть. Все в жизни образуется само собой, и без нашего вмешательства в проблемы жизни. Запомните это, ибо я говорю, прожив жизнь и находясь сейчас на краю могилы. Мы тратим бесконечные усилия в погоне за счастьем и не помним, что сказал Пушкин: На свете счастья нет, а есть покой и, воля…
Немалую заботу отцу доставляло мое образование, когда я учился в начальной школе. Он выводил на бумаге своей рукой неграмотные каракули и заставлял меня обязательно подражать им. К чести отца должен сказать, что отец очень желал и стремился, чтобы дети получили образование. Но за недостатком средств и отчасти благодаря своей страсти к вину и картам, не мог этого сделать. Обычно пьяный, он начинал меня экзаменовать, заставляя писать и читать. Я не мог подражать его каракулям, и это выводило его из себя. Он принуждал меня писать, лишь после этого оставляя меня в покое, уверяя, что наш учитель не умеет нас учить.
Отец мой жил, постоянно приговаривая: «Солоно ешь, горько пей, – помрешь, не сгниешь». Поэтому-то, очевидно, он и налегал шибко на выпивку. Сам он был малограмотный – расписаться ему было неимоверно трудно, – но очень любил, когда ему читали. За гривенник я ему прочел как-то Пашковское евангелие,[3 - Пашковцы – последователи религиозной секты в России, обязанной своим возникновением проповеди англичанина лорда Редстока, в 1874 г. прибывшего в Петербург и с большим успехом проповедовавшего в великосветском обществе. К числу приверженцев Редстока принадлежал отставной гвардии полковник Василий Александрович Пашков, от его имени секта и получила свое название. В 1876 г. Пашков испросил разрешение на учреждение «Общества поощрения духовно-нравственного чтения», задача которого по уставу состояла «в доставлении народу возможности приобретать на самом месте жительства его и за дешевую цену книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета и сочинения духовно-нравственного содержания». Общество выпустило в свет более 200 брошюр ценой от 1/2 до 6 коп.; иные брошюры раздавались даром.] которое он тщательно хранил. Я уже хорошо читал, и он, придя пьяный, не найдя матери, чтобы с ней поскандалить, заставлял меня читать. Мне было тягостно читать, когда отец, пьяный, казалось, засыпал. Но он не спал, и если я прекращал чтение, то заставлял продолжать. Как-то мне попалась книжка «О вреде пьянства». Я с удовольствием стал читать ее ему. Но слушал он ее без обычной внимательности и засыпал действительно. Я это заметил и стал ему пьяному обязательно читать эту книжку. «Ну, опять ты ее», – и приказывал мне ложиться спать. Засыпал и сам. Мне только то и нужно было.
Была еще соседка по квартире, тетя Варя, неграмотная, но любительница слушать романчики. Помню, за гривенник я ей прочитал большой роман Всеволода Соловьева «Последние Горбатовы». Гривенник – это был целый капитал. На гривенник можно было купить 40 штук паточных карамелек – 4 штуки на копейку.
К чести отца, он был очень честный человек и внушал эту честность нам детям. И как внушал! Он больно порол меня ремнем три дня подряд за найденный мною двугривенный. Я действительно нашел его и дома похвастался. А отцу втемяшилось, что я украл его у учителя. Отпорол меня и велел отнести учителю. На другой день отец спрашивает: «Отдал учителю двугривенный?» Я с плачем уверял, что нашел его. Опять отпорол, приказывая отнести учителю. На третий день повторилось то же, опять порка и наказ отдать двугривенный, где взял, но на этот раз приказал матери сходить к учителю и спросить, не у него ли я украл двугривенный. Мать получила удостоверение, что я двугривенного у него не брал, и только тогда отец успокоился.
Отношение к господской да и к государственной собственности, как мы видели на примере деда Василия и увидим ниже на примерах из жизни самого Алексея Константиновича, было совсем другое. По-видимому, ощущение несправедливости в разделении состояний давно жило в сознании простых русских людей, да и сейчас продолжает жить.
Трезвый отец очень любил церковные службы, особенно торжественные в хороших церквях, и брал меня с собой. Мы часто с ним бывали в церкви Технологического Института, где пел прекрасный хор певчих. Бывали в Исаакиевском, Казанском и других соборах. Под влиянием церкви и читаемых книжек божественного содержания я часто искал место, где бы вырыть пещеру и жить в ней пустынником. Но жизнь моя слагалась иначе.
Учился я в Волковой деревне, учился хорошо, и все время считался первым учеником. Но на выпускном экзамене со мной произошел казус. Я перевязал бечевкой ноги сидевшим передо мной за партами девочкам. Произошел скандал, и меня выгнали с экзамена вон из класса. Плачущий, я не уходил из школы. Но когда экзамены кончились, позвали в класс меня. Экзамен по математике и диктовке был мной уже сдан. Сидя за столом, экзаменатор, не поднимая головы, пробурчал: – «Дмитрий Донской». Историю я любил, Донского особенно, и рассказал о нем как по писанному. Затем дали мне читать: «Лошадь Казбича». Читал я великолепно, а тут старался особенно, и экзамен я выдержал с похвальным листом.
Отец был специалистом – фетровщиком, на редкость дельным. Он и детям своим оставил некоторые секреты этого дела, дававшие им возможность при ином положении составить изрядный капитал. И не его вина, что это наследство, ценное необыкновенно, не пошло им впрок.
Он долго работал в мастерской Свириных, пока не задумал иметь свою мастерскую.
Эта идея, и настойчивая, принадлежит моей матери – женщине абсолютно неграмотной, но практического ума необыкновенного. Были у нее и другие поразительные способности, и, живи она в иных, например современных, условиях, из нее была бы замечательная актриса, подобная известной Савиной. Я часто сравнивал их при ее жизни. Мать могла неподражаемо и бесподобно имитировать людей и, изображая их, так меняла голос, что, бывало, только руками разводишь от этой ее способности. Уже перед смертью, она развлекала нас имитацией разных людей. Она немного пережила отца и похоронена с ним вместе на кладбище в Новодевичьем монастыре.
Когда отец, наконец, решил хозяйствовать, я учился на вечерних курсах графини Паниной. Графиня относилась ко мне необыкновенно хорошо (у сына Кости должен сохраниться портрет Толстого, – это ее подарок мне) и дала мне в долг 700 рублей. Эти деньги я возвратил ей позднее, и она была очень рада, что помогла нам организовать собственную мастерскую.
Особенно удачной была идея делать фетровые боты. Это, можно смело утверждать, была идея отца.
Старшие дочери Алексея Константиновича помнили, как в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, когда семьи Константина Васильевича и его старшего сына Алексея жили вместе, к их дому на Рощинской улице подъезжали шикарные кареты царских фрейлин, подбиравших или заказывавших себе ботики в мастерской деда.
Этот секрет он, умирая, оставил нам, и мы, благодаря знанию секретов отца, после революции при НЭ-Пе, тоже развили большое фетровое дело.
В заключение рассказа об отце Алексея Константиновича и его детских впечатлениях приведем начало стихотворения «Цветочная улица…», написанного, очевидно, уже в 30-е годы. Музыкальность и ритм этого стихотворения впечатываются в память после первого прочтения:
Цветочную улицу,[4 - Цветочная улица тянется на юг от Лиговского проспекта параллельно Московскому проспекту и затем подворачивает к нему (на юго-запад), переходя в Рощинскую улицу.] сад с тополями,