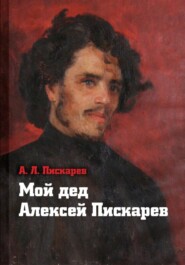скачать книгу бесплатно
Сделали хороший памятник Мордвинову на кладбище Новодевичьего монастыря, Комиссаржевской, которую изображали в образе ее главной роли Чайки, и много других художественных работ. Одно время я работал над созданием памятника Александру III художника Трубецкого. Эта работа сопровождалась курьезными приключениями.
Рассказ об эпизоде, ярко характеризующим петербургское общество 1900-х годов, Алексей Константинович предваряет некими общими выводами о развитии в России литейного дела.
Ленинградские памятники являются, отчасти, показателем развития техники. Вот фигура памятника Петру I, стоящая у Инженерного замка, работы Растрелли, кажется, в стиле рококо. На ней нет местечка без затейливых узоров. Фигура утверждена на четырех точках опоры. Памятник Петру I на Сенатской площади работы Фальконе утвержден на трех точках опоры. Памятник Николаю I у Исаакия работы Клодта уже утвержден на двух точках опоры.
Памятник Александру III, снятый с Знаменской площади и находящийся в Михайловском саду, я, короткое время принимавший участие в отливке, считаю одним из лучших памятников. Поэтому он, видимо, и убран к Русскому музею. Автором его является Паоло Трубецкой. Я хорошо помню маленькую фигурку Трубецкого в оригинальных брючках.
Этот памятник отлит почти впервые в России по итальянскому способу. Прежний французский способ исполнения художественных произведений страдал тем, что отделка такого литья требовала обработки его чеканщиком, который обычно безобразил, особенно лицо и черты его, и делал статую непохожей на то, что передавал художник. Увидите сами, если всмотритесь, – лицо отполировано, и выражение его, – не выражающее ничего, – какое-то твердокаменное. Итальянский способ литья этих недостатков не имеет, и фигура сохраняет все черты лица, какими наделил ее художник. Итальянский способ литья был около двухсот лет секретом итальянских мастеров. Трубецкой, живя много лет в Италии, как-то узнал их способ литья. Приехав в Россию, он сделал первую в России, исполненную по итальянскому способу, фигуру – графа Витте с собакой, – она находится в Русском музее. За эту способность Трубецкого исполнять художественное литье по новому способу, мне кажется, и был дан ему заказ на исполнение памятника Александру III. Говорят, что царь Николай II, увидев модель памятника, воскликнул: «Папенька, как живой!».
Формовали памятник в мастерской Академии художеств, и затем готовую форму перевезли на Обуховский завод для заливки. Заливкой памятника руководил чех, литейщик, фамилию его я забыл. Он пригласил нас шесть литейщиков на случай какой-нибудь аварии. Выбрал он нас сам, очевидно зная наше прошлое, что мы не струсим в случае опасности. Бронзу плавили в вагранке, а из вагранки металл по желобам должен поступать в форму. Литейская чаша нам показалась мала, и мы сказали об этом чеху. «Ничего, хороша», – сказал чех, махнув рукой.
Наступил день заливки. В литейной сделали из досок места для гостей, пожелавших посмотреть на заливку памятника. Расплавили бронзу, что-то около 100 пудов. Наехали гости – все титулованные, и с ними дамы, фрейлины и прочие, в платьях с длинными шлейфами. Гости за ними ухаживали – несли за ними их шлейфы.
Наконец, пустили металл. Как мы говорили, так и случилось. Литейская чаша оказалась мала. Поступавший по желобу металл стало выхлестывать из чаши. Брызги металла от расхлестывания полетели по литейной и зажгли сооруженную для гостей трибуну. Деревянная трибуна загорелась, и хотя опасного ничего не было, но среди гостей поднялась неимоверная паника. Кавалеры первые убежали из литейной, оставив своих дам с их длинными шлейфами сзади на трибуне. Без чужой помощи убраться, имея такие шлейфы, было трудно. Обезумевшие дамы многие попадали в истерике, другие плакали и кричали о помощи. Пришлось нам выносить истеричных и выводить остальных из литейной.
А для отливки пришлось делать новую форму.
* * *
В мастерской Морана была полная свобода, и это мне нравилось. То, что я ценил выше всего – сам себе хозяин, нет нужды подчиняться чьей-то чужой воле. Формовали мы памятник – глупенький, сидящий на коленях со сложенными руками ангел. Сейчас он стоит на кладбище Новодевичьего монастыря в Ленинграде, недалеко от могилы отца. На отопление литейной мы литейщики, нас было девять человек, носили кокс из-под навеса на дворе по очереди. Настала моя очередь приносить кокс. Я отправился с решетом за коксом. Тут мое внимание привлек ряд закупоренных бочек. Заинтересовавшись ими, я решил узнать содержание бочек. Найдя кусок железа, я выломал днище одной бочки. Гляжу, там чистейшая белая патока. Это лавочник нашего дома заготовил патоку для торговли в предстоящем посту.
Эге, штука-то хорошая, подумал я, и, придя в литейную, говорю: «Ну, ребята, клад нашел!» «Какой?» – спрашивают. – «А вот сейчас увидите». Взял наш общий артельный чайник и пошел под навес. Налил полный чайник, приношу его в литейную. Всем понравилось лакомство. И начали мы все по очереди выгружать эту патоку. Настало развеселое житье. И сами на работе ели, и на водку продавали, и домой таскали. Дома мать спрашивает: «Откуда это?» «Хозяин выдает», – отвечаю. И ели мы эту патоку, кому сколько влезет. Так мы опорожнили несколько бочек. С патокой нам было не до ангела, которого мы формовали, оттого он и вышел такой безобразный.
Пошел я как-то с чайником под навес за патокой, была моя очередь, и нарвался на владельца этой патоки, лавочника из нашего же дома. Он, оказывается, караулил. Цоп меня, – «так это вы таскаете»! Результат: полицейский протокол и впереди неизбежная тюремная сидка, на Казаках, так назывался арестный дом, находящийся близ Казачьих казарм. Сидка предстояла, хоть и не долгая по тогдашним временам, но все-таки – перспектива не из приятных. Надо было из Питера отмечаться и увинчивать куда-нибудь, чтобы не нашли, а там за давностью и судебное дело прекратится. Так поступали все опытные в таких делах.
Пелагея Семеновна Пискарева (баба Поля). Фотография. 1900-е гг.
Обсудив сообща в литейной происшедшее несчастье, все пришли к выводу, что мне, не ожидая суда, который ничего хорошего не сулил, необходимо отметиться и скрыться. Лучшего ничего придумать не могли. Я немедленно приступил к осуществлению решения. Все рассказал матери, пояснив, откуда бралась патока. Она тоже поняла правильность моего решения и стала собирать меня в дорогу.
Рязань. Мастерство. Первая любовь
Тут начинается история моей первой любви, когда мне было около 17 лет (1900 год).
На ловца и зверь бежит. Прохожу я по Гостиному Двору, вижу объявление в окне магазина братьев Щелкиных: «Требуется литейщик в отъезд. Узнать здесь». Обрадованный, что слагается все очень кстати, захожу в магазин. Спрашиваю: «Здесь требуется литейщик?» «Да, здесь, – говорят приказчики. – Только хозяина сейчас нет, зайдите вечером, он будет». Захожу вечером, выходит купчик в поддевке, точь-в-точь похожий на купца, как он в «Грозе» представлен. «Да, литейщик мне нужен в Рязанскую губернию. А ты шестеренки лить умеешь?» Я, усмехаясь, ответил, что я и не это умею. А шестеренки только мальчишки ученики обычно делают. «Еду я завтра, – говорит купец. – Ты можешь собраться, поедем вместе». Жалованье мне назначил 27 рублей в месяц, на всем готовом. Я, конечно, не торговался и согласился на условия сразу. – Лишь бы уехать, думалось. Прихожу к матери, у нее все к отъезду готово. На другой день прихожу, готовый к отъезду. Купец меня ждет. Обрадовался, что я пришел. Хозяина моего нового звали Алексей Лукич Доброватов. Узнав, что меня тоже звать Алексей, он проговорил: «А, это хорошо, значит, тезками будем. А водку пьешь?» Я ответил, что пью, – это тоже его удовлетворило. И мы поехали на вокзал. На вокзале он, первым делом, поспешил в буфет и меня пригласил.
Выпили мы с ним и сели в вагон. По пути он редкую станцию пропускал, чтобы не забежать в буфет и не выпить, и меня прихватывал. Так мы доехали до Рязанской губернии. На реке Мокше, впадающей в Оку, находился завод Доброватова. По берегам этой реки находятся залежи болотного железняка, и там понастроены заводы, плавящие руду болотного железняка. Один из заводов с небольшой домной и был заводом Доброватова.
Приехав на завод, я немедленно ознакомился с ним. Была там маленькая домна, и отливали исключительно посуду – чугуны, сковородки и т. п. Заливалось и небольшое количество чушкового чугуна. Для переплавки чушки Доброватов построил вагранку. Строили ее хозяйственным способом, без участия инженера, и, конечно, вагранка не удавалась, – чугун получался густой и для отливок негодный. Чая ее хода, Доброватов и привез меня.
В один из дней моего нахождения на заводе, от нечего делать, – работы мне никакой не давали, да для меня ее и не было, – я заинтересовался вагранкой, которую вагранщик Марко, как звали его, подготовлял к новой опытной плавке. Я заинтересовался, как Марко выкладывал вагранку. Обратил внимание на фурмы. Я не был теоретически знаком с устройством вагранок, но на глаз фурмы мне показались очень большими. Я сказал Марку, что, мне кажется, фурмы он выкладывает очень большими, что в Петербурге и на больших вагранках фурмы делаются меньше. Марко, не возражая мне, сказал: «Ну, мы и уменьшим» – и на полкирпича уменьшил фурмы. При пуске вагранки присутствовал и Доброватов. И вдруг, к их недоумению и радости хозяина, чугун пошел жидкий, что надо. Хозяин спросил у вагранщика: «В чем дело?» – «Да вон питерец научил уменьшить фурмы, я и сделал, и дело пошло». Меня на заводе уже прозвали «Питерец». Хозяин шагнул ко мне, обнял: «Ну, молодец ты» – и тут же объявил о повышении мне жалованья до 30 рублей в месяц и хозяйственно прибавил: «Надо сказать Машке, чтобы кормила хорошенько».
Харчевался я в артели с приказчиками. Стряпуха Машка давала мне лучшие куски за обедом, потому что хозяин приказал кормить меня лучше или потому что я ей понравился, – я уже ухаживать за ней начал.
Попробовал я, было, тоже формовать чугуны, но без привычки делались они и тихо, и плохо. Я бросил заниматься этим делом. Шлялся по заводу, ничего не делая. Вечером стал ходить в деревню, где девки хороводы водили и наперерыв меня в пары себе забирали.
Шляюсь я по заводу как-то и захожу на склад выпускаемых товаров. Смотрю, там стоит памятник в виде ангела, мраморный, надгробный, – хозяин на могилу умершей дочери из Москвы выписал. Стою я перед памятником, осматриваю его, – как раз подходит хозяин, хлопает меня по плечу, спрашивает, чего я смотрю. «Да вот на ангела гляжу, – и спроста говорю: – Свой завод, отлили бы чугунного, не хуже мраморного был бы». «А можно это?» – спрашивает хозяин. «Да отчего же? Модель есть, сформовать ничего не стоит», – отвечаю. «Так сделай, хозяйке радость будет», – говорит хозяин.
И я вынужден был принять на себя обязательство приняться за отливку ангела. Приготовил формовочную землю, изготовил опоку и принялся за работу. Недели две я канителился с формовкой и, наконец, тщательно приготовил опоку к заливке. Залили благополучно. На другой день вынули отливку, вычистили. Матово-сизый лик ангела выглядел умнее мраморной модели.
Хозяин был в восторге. Еще бы, на его заводе была изготовлена такая красивая вещь. Обрубили, отделали, натерли воском и сделали его сияющим. Выставили в контору. Пришла посмотреть и хозяйка Зоя Владимировна. Фигура понравилась ей необыкновенно. Хозяин отрекомендовал ей меня как мастера этого дела. И она, сняв мою фуражку, гладила мои кудри. Мне было и приятно, и как-то жутко это поглаживание моей головы.
Хозяйка Зоя Владимировна произвела на меня неотразимое впечатление. А была она, действительно, красавица. Выше среднего роста, правильные черты лица, пушистые соболиные брови, ласковый голос резали мне душу. Это была точь-в-точь Юдифь, собирающая колосья, с картины Серова. Я буквально онемел при ее виде, и если тут же не сошел с ума, то только потому, что хозяин стал угощать меня за удачное исполнение памятника. Меня повели на хозяйскую кухню. Хозяин принес вина, а хозяйка стала угощать меня, все время хваля меня, и опять гладила меня по голове. Пил и ел я мало, и глаз не сводил с хозяйки. Вышел я с кухни как чумовой, не отдавая себе отчета, что со мной происходило. С этого момента я ходил как в воду опущенный.
Скучно стало, не хотелось ходить на деревню к девушкам, противны стали их песни и хороводы. Стряпка Машка сразу заметила, как я изменился, похудел, стала меня кормить еще усерднее, но мне было не до еды. Хозяйке было, определял по различным соображениям, лет уже 30. У нее умерла дочка, на могилу которой и предполагалось поставить мой памятник. Днем и ночью хозяйка не сходила у меня из глаз. Я представлял ее и понял, наконец, что я влюбился. Влюбился крепко и безнадежно. Она замужем за хозяином, а я простой литейщик, – но тем не менее не мог отделаться от мысли о ней. Как лунатик я ходил по заводу с мыслью посмотреть на нее, увидеть, хотя бы в окошке хозяйской квартиры, и был несказанно счастлив, если это удавалось. Весь день тогда я был счастлив, а на другой день ловил себя на желании снова видеть ее, давал себе зароки не ходить больше к окнам ее квартиры, и все-таки опять шел. Такая мука продолжалась недели две.
Памятник мой установили. Однажды я в тоске пошел на кладбище провести горестное время и полюбоваться на произведение моих рук. Сел на скамейку, задумался. Нечаянно оглянулся, гляжу, к могилке идет хозяйка Зоя Владимировна. Моей первой мыслью было убежать, скрыться в кустах, но она была уже близко и крикнула, чтобы я не уходил.
Я остановился, она подошла, села на скамейку, приказала садиться и мне. Я, не чувствуя рук и ног, безмолвно сел. Она поднялась, потом стала на колени, скрестила руки на могилку и заплакала перед памятником.
Затем села со мной рядом, стала сначала хвалить памятник и расспрашивать, как я живу, есть ли у меня родители и прочее. Я отвечал «да» и «нет», не находя более слов отвечать ей. Потом стала спрашивать, слегка улыбаясь, гуляю ли я с девушками, нравятся ли они мне, не скучаю ли, и зачем пришел на кладбище? Что я ей отвечал, не помню, сидел как очарованный или околдованный. И вдруг спросила, целовал ли я девушек и умею ли с ними целоваться? Что и как я отвечал, повторяю, не помню, – сидя как пришибленный и как на иголках. Но, очевидно, мои ответы ее не удовлетворили, она потребовала показать, умею ли я целоваться, и решительно приказала поцеловать ее. Я не знал, что мне делать, и, главное, не знал, куда мне деть руки, они положительно мешали. Я бы с удовольствием в тот момент провалился. Не думал и о возможности когда-нибудь целовать ее, а тут приходилось это делать. Смущенный до нет спасения поцеловал ее. Она запротестовала: «Разве так целуют, надо крепче, крепче! Целуй в губы, да всасывай их крепче, а то только пачкаешь их слюнями!»
Униженный ее недовольством, я сидел, не зная, что делать и как поступать, думая лишь, как бы мне сбежать и скрыться. Наконец, оправившись, – я все-таки изрядно ее расстроил своими медвежьими объятиями, – как бы спохватившись, она сказала: «Ах, надо идти, пора уж». Склонилась к могилке, поцеловала, посмотрела на памятник, и, еще раз похвалив меня за отлитого ангела, погладила мои волосы и, подняв мою голову, крепко меня поцеловала; и пошла из кладбища, наказав мне завтра снова приходить сюда же. И ушла, помахав издали платочком.
Что со мной происходило, трудно рассказать. Я был и счастлив, видя ее, и сердце ныло как-то болезненно. На другой день, придя задолго, я уже ожидал ее, хотя и давал себе зарок не ходить.
Пришла она и объявила, что мужа нет, он уехал на ярмарку. А я уже знал это раньше. Она принесла с собой гребень и стала расчесывать мои кудри. Безмолвный, я позволял делать, что угодно, упиваясь блаженством от ее близости. Нечаянно уперев руку о ее колени, вспомнив, что это неприлично, быстро отдернул руку. Она это заметила и приказала положить руку на старое место. Я крепко положил руку на ее колено, и тут все мое существо вспыхнуло жарким огнем. Не помня себя, как сумасшедший, уткнувшись в ее грудь, я стал терзать ее. Она слабо сопротивлялась. «Что ты, что ты, тут нельзя, пойдем в кусты». Взяв ее в охапку, я понес ее в кусты. И там случилось то, что неизбежно должно было случиться.
На другой день повторилось вчерашнее. И продолжалось это почти ежедневно, пока хозяин был на ярмарке с товаром.
Припоминая все сейчас, я понимаю ее. Ей не мог не нравиться кудрявый, недурной собой мальчик, и она решила позабавить себя с ним. Больше двух месяцев, все лето, прошло со встречами с ней на пустынном кладбище, пока, наконец, не приехал ее муж.
Однажды она пришла на кладбище, где я по обыкновению ждал ее. «Знаешь что, Леша, тебе надо уехать». Я знал уже, что хозяин приехал, и сам пришел к необходимости уехать. «А у тебя есть деньги?» – спросила она меня. Я ответил, что есть. В последний раз, горячо простившись, мы расстались, и я стал готовиться к отъезду. Хозяин, было, не отпускал меня, но я решительно сказал, что мне надо уехать.
И я действительно быстро собрался и уехал. Я решил, что дело мое с патокой кончилось (прошло уже больше полугода), и спокойно уехал, увозя с собой память – мою первую пылкую любовь, о которой я, уже 68-летний, не могу вспоминать, не испытывая волнения.
* * *
В начале 20-х годов, возвращаясь из Киева от Сивея (о чем будет рассказ впереди. – А. П.), я рассказал эту свою историю брату Василию. В Москве он взял машину, и мы поехали в Рязанскую губернию на Мокшу. Завод оказался разрушенным. От соседей узнали, что хозяин Доброватов помер, а жена с дочерью уехала в Москву.
* * *
Мне было уже под 50 лет, когда нечаянный случай судил мне вновь увидеть Зою Владимировну Доброватову с дочерью, и, почем знать, может, с дочерью и моею, судя по ее виду, годам и наружности. Случилось это так.
Мы ставили памятник на могилы отца и брата Василия. Я пошел на Тамбовскую улицу к монументщику, чтобы договориться об установке памятника. Его не было дома, и жена его сказала, что он скоро придет, и чтобы я обождал его. Он был в домкомбеде. Сижу, дожидаюсь. К хозяйке пришли жилички дома и завели разговор о людях, назначенных к выселению из дома. И вдруг, слышу, упоминается фамилия Доброватовы. Я прислушался, и оказалось, что речь идет о Зое Владимировне с дочерью, проживавшими в доме. Пришел монументщик. Рассказав о деле, за которым пришел, я стал расспрашивать его о Доброватовых. Оказывается, что их, как бывших заводчиц, выселяют из дома. Он же рассказал, что она с дочерью служат на Варшавской железной дороге и что они обе очень симпатичные женщины, их жалко, а выселять придется.
Монументщик был председатель домкомбеда. Я сказал, что я их знаю, что работал на их заводе, что завод был маленький кустарный, что хозяин и хозяйка относились к рабочим хорошо, были к рабочим очень добры. Был я тогда членом Ленинградского Совета и предложил дать им свою рекомендацию. Упрашивать монументщика не приходилось, он обещал все устроить, чтобы их не беспокоили. На всякий случай я написал свою рекомендацию, и монументщик дал слово, что он все устроит. Позже я узнал, что он действительно все устроил, и Доброватовы в доме остались проживать.
Мне хотелось их видеть, и монументщик сказал, что они скоро придут с работы, и предложил обождать их у ворот дома. Вскоре явились и они. Я бы узнал их, даже если бы мне их и не показали. Она выглядела уже старухой, со следами прежней красоты на лице, и была сильно похудевшей, что в то голодное время не являлось редкостью. А дочь ее – брюнетка, с роскошной растительностью на голове, смуглым лицом, лоб и черты лица напоминали меня. На блондинку мать она нисколько похожа не была, так же как и на русоволосого отца. Мне пришла в голову невнятная мысль: «не моя ли это дочь?» Прошедшее время подтверждало эту мысль.
Я удержался от желания подойти к Зое Владимировне, признаться и напомнить ей о давнем прошедшем, и, может, хорошо сделал, что не всколыхнул в ней воспоминаний. Хотя сейчас жалею, что пропустил представившийся случай, но я имел большую свою семью, и только это удержало меня. Где-то они теперь? Зоя Владимировна, наверное, умерла, – она была ведь при нашей встрече вдвое старше меня, – а дочь, наверное, вышла замуж, и не к чему ей знать о своем происхождении.
Курсы графини Паниной. Крузе
Вернувшись в Петербург, Алексей Константинович какое-то время ищет работу, вращаясь в компании молодых рабочих-литейщиков, не отягощенных ни семьями, ни заботами о чьем бы то ни было благе. Такой образ жизни описан им в рассказе об обстоятельствах смерти и похоронах одного из их товарищей.
Была у нас постоянная доброжелательница, уже пожилая женщина Пудриха. Жила она тем, что снимала квартиру и сдавала углы жильцам. Наша компания молодых литейщиков была постоянными ее гостями, жильцами. Как-то, страдая похмельем после выпивки, приходим мы с Колькой Носом к ней и просим у нее дать нам на похмелье. Она набросилась на нас с бранью и упреками: «Вот, пьянствуете-то вместе, а Ванька Булыз помер и похоронить некому, опять Пудрихе придется». Это нас ошарашило. Мы не знали о смерти Ваньки Булыза, знали только, что он болен был. «Пойдите, похороните, – бутылку куплю».
Стало совестно. Действительно, Ванька Булыз был нашим неизменным товарищем, и мы согласились идти хоронить его. Пудриха дала нам документы, – она уже их схлопотала.
Хоронить надо было далеко, на Успенском кладбище на Васильевском.
Дала она нам сани, сказала, куда надо идти, и велела принести ей документы о похоронах. И мы отправились в Обуховскую больницу. Приходим в мертвецкую, спрашиваем сторожа, где такой-то. Сторож указал – он уже был в гробу, Пудриха уже все схлопотала. Стали мы выносить, а мертвые все тяжелые, насилу вынесли. Поставили на санки, просим у сторожа: «Дай веревочку, гроб привязать». «Да где я веревок наберусь», – отвечает. Запрягаемся – один в корень, а другой палочкой подпирает сзади. Так мы и повезли.
Везти надо было в обход центральных улиц на Николаевский[6 - Ныне – Благовещенский мост.] мост. Снег только выпал, еще не умят был, везти было тяжело. С трудом перевезли почти по камням Благовещенскую площадь и, выйдя на Николаевский мост, измученные, оба в поту, остановились на мосту. Я снял шапку, распахнулся и сел на гроб, бросив около себя шапку. Мой товарищ стоял, опершись на перила моста. Идет мимо какая-то старушка, подошла к гробу и, перекрестившись, со словами «все мы там будем» опустила в мою шапку монетку. Я сначала с недоумением, не поняв, за кого нас принимают, безмолвно смотрю на случившееся. За старушкой пошли мимо нас и другие люди, опуская в мою шапку монетки. Движение по мосту, когда не был трамваев, было огромное, и вскоре половина моей шапки наполнилась монетами. Мы с товарищем невольно повеселели, видя явную прибыль от производимых похорон. Усталость прошла, мы отдохнули. Но вот вдали на площади показалась фигура городового, направлявшегося в нашу сторону. Рассыпав по карманам набранные деньги и освободив шапку, двинулись, везя гроб дальше.
Николаевский мост, Санкт-Петербург. Фотография. 1900-е гг.
Раньше на оконечности моста у Васильевского острова стояла часовня. Мы сообразили, что если у часовни сделать новую остановку с гробом, то выгоды будут еще большие, чем в начале. Так и сделали. Я остался с гробом у часовни, положив опять шапку на гроб, а товарища послал к городовому, стоявшему у Академии Художеств, заговаривать ему зубы.
Как и предполагали, выручка пошла отличная, шапка вновь наполнилась пятаками. Я кликнул товарища, чтобы шел, и мы, повеселевшие и уже ощутившие голод в брюхе, повезли гроб к Успенскому кладбищу уже без приключений.
Приезжаем на кладбище, отыскиваем часовню, куда свозили мертвых для отпевания, и уже невтерпеж спрашиваем, а скоро ли поп отпевать придет. Сторож нехотя отвечает: «А вот придет, тогда и отпевать будет». Видя, что больше от него никакого толку не добьешься, поставили гроб на катафалк, а саночки поставили за дверь, и так как голодным нам деньги покоя не давали, махнули напрямик к Финляндской железной дороге, к станции в буфет. Там выпили, поели и отдохнули. Приходим обратно в часовню, смотрим, нашего гроба с Колькой Булызом нет, его уже похоронили без нас, и саночки наши исчезли. Неприятно, что так все нехорошо кончилось, но нам, подвыпившим, уже было наплевать на обещанную Пудрихой бутылку водки, которая пропала несомненно, ибо ни документов о похоронах у нас не было, да и санок тоже. Но товарища мы похоронили отменно.
В другом рассказе о том же времени Алексей Константинович затрагивает и обстоятельства случившейся несколько лет спустя гибели в Цусимском проливе эскадры адмирала Рождественского.
У меня был хороший приятель литейщик Нипер – латыш или эстонец, человек славный. Он погиб в Цусиме на транспорте «Камчатка», когда поехал с эскадрой Рождественского на этом судоремонтном транспорте, – там была для надобностей флота и маленькая литейная вагранка.
Мы оба были безработные и пошли на Васильевский остров на завод Вилькинса искать себе работу. Было уже предобеденное время, а мы с утра ничего не ели, ходя в поисках себе работы. Идем по Благовещенской площади, – шли пешком, ибо на конку 4 копеек не было. Я говорю: «Эх, поесть не худо бы!» А Ни-пер отвечает: «Сейчас поедим, только делай все, что я делать буду». Смеясь, думая, что он шутит, говорю: «Ладно!»
Входим на мост, а там торговки на тротуарах всякой едой торгуют. Подходим к торговке, торгующей пирогами. Нипер берет пирог. – Бери, – говорит мне. Я тоже взял, стоим и едим. Съели по пирогу, берем по другому, съели по половине. Вдруг Нипер валится на панель, ухватившись руками за живот с криками: «Ой, не могу!» Помня его приказание, я тоже валюсь, ухватившись за живот. Торговка, увидев нас барахтающимися на земле, схватила свои пироги и бросилась бежать, думая, очевидно, что мы объелись. Когда она убежала далеко, Нипер встает и говорит мне: «Ну, теперь пойдем, ее нет уже».
И этакое дело у нас было не однажды, и мы бывали постоянно сыты.
Жизнь и приключения такого рода продолжались до поступления на завод Вилькинса. Два события резко изменили устремления Алексея Константиновича: знакомство с просвещенным рабочим-литейщиком Василием и поступление, по совету того же Василия, на курсы графини Паниной (а впоследствии и личное знакомство с Паниной, выдавшей кредит на организацию личного дела).
Через некоторое время после приезда в Петербург я поступил на работу на завод Вилькинса на Васильевском острове. Между многими другими заводами, на которых я работал, я называю этот завод по случайной встрече там с литейщиком Василием. От него я впервые познакомился с жизнью заграничных рабочих и узнал о борьбе рабочих за свои права. Это он первый, кто направил мою жизнь, сделав меня революционером. Ничем не замечательный, этот человек дал мне направление на новый путь в жизни. Он снабжал меня революционными книгами, от него я научился революционным песням. Так, по его совету я решил учиться и записался на вечерние курсы, открывшиеся впервые в Доме графини Паниной. Я должен был, чтобы учиться на этих курсах, переменить место работы, ближе к курсам. Переменив завод, я потерял из виду и Василия.
Поступив осенью на вечерние курсы графини Паниной, я резко изменил свой образ жизни. Бросил пить и курить. Такому резкому и радикальному излечению от курения и пьянства я обязан небольшой книжечке Толстого, случайно попавшей мне, – «Для чего люди сами себя одурманивают». Она произвела на меня убийственное впечатление. Впоследствии я ее перечитывал снова, и она мне принесла впечатления первого чтения.
Графиня Панина сыграла огромную роль в жизни Алексея Константиновича Пискарева, так как созданная и поддержанная ею образовательная программа помогла открыть ему новые горизонты в образовании и культуре. Несколько позже, благодаря ее помощи, изменилась и жизнь всей семьи Пискаревых, так как Алексей, познакомившись с Паниной на курсах, получил от нее заем для организации фетровой мастерской под руководством отца.
С. В. Панина. Портрет И. Е. Репин, 1909 г.
Графиня Софья Владимировна Панина родилась 23 августа 1871 года в Москве.[7 - В жизнеописании С. В. Паниной, кроме справочных материалов, использованы данные исследований профессора университета Вилланова (Филадельфия, США) Адель Линденмайер и сведения из книги Ларцева Н. В. Театр расстрелянный / Ред. Э. Тулин. Петрозаводск: Петропресс, 1998. 159 с.] Происходила из старинного знатного рода. Внучка министра юстиции Виктора Никитича Панина и промышленника С. И. Мальцева, единственный ребенок единственного сына Виктора Никитича. Ее отец Владимир Викторович умер очень рано (ему было 34 года, а ей было 2 года), и она осталась единственным наследником панинского богатства. Когда в 1899 году умерла бабушка, графиня Наталья Павловна Панина, Софья Владимировна стала очень богатой и самостоятельной женщиной.
В 20 лет Софья Владимировна сочеталась браком с офицером-аристократом А. А. Половцевым, сыном царского сановника. Александр III был посаженным отцом на этой свадьбе. Однако вскоре Панина развелась с мужем.
Духовное влияние на Софью Владимировну оказала ее мать Анастасия Петрункевич, привнесшая культуру и нравы шестидесятников и прогрессистов-либералов. Получив прекрасное образование в привилегированном Екатерининском институте, графиня Софья в девятнадцать лет познакомилась с Александрой Васильевной Пешехоновой, школьной учительницей из рабочего района, пришедшей к ней просить об организации столовой для учеников. Александра Васильевна, которая была старше на 20 лет, стала ее наставником в деле по оказанию помощи нуждающимся рабочим семьям в Петербурге. Нужды их Пешехонова знала очень хорошо, так как она работала в народной школе в одном из самых бедных районов столицы.
Паниной было 19 лет, когда она впервые увидела убогую окраину Петербурга, расположенную по берегам зловонной, тогда еще не засыпанной речки Лиговки за Обводным каналом. Ни деревца, ни кусточка. Единственное место для прогулок – Волково кладбище. А для праздника души – кабак. Все уныло, серо, угрюмо.
…И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь.
(Николай Заболоцкий. «Столбцы». 1929 год).
Софья Панина решила на свои средства построить именно здесь дворец для обездоленных людей. Проект заказала Юлию Бенуа, архитектору не столь известному как его дядя Николай Леонтьевич или двоюродный брат Леонтий, но уже зарекомендовавшему себя как специалиста по сооружению утилитарных построек высокого архитектурно-художественного уровня.
В 1901 году было начато строительство. На Пасху в 1903-м Лиговский народный дом был открыт. Рядом разбит сад. Как жалела графиня, что деревья растут медленнее дворцов! А дворец был прекрасен.
1903 год, когда Санкт-Петербург праздновал двухсотлетний юбилей, принес много перемен. В том году женщинам позволили ездить на городской конке. А самая прогрессивная женщина своего времени, меценат и просветитель графиня Софья Панина, возвела на Лиговке, в грязнейшем и беспокойнейшем районе Петербурга, необычное заведение – Народный дом для рабочих и их семей. Там, где раньше отдых и развлечение были возможны лишь в кабаке, а культурное проведение досуга означало разве что прогулку по Волкову кладбищу, в этом самом месте вдруг открылись библиотека, театр и обсерватория.
Лиговский народный дом графини Паниной. Современная фотографии.
Лиговский народный дом. Классы. Фотография. 1910-е гг.
Лиговский народный дом. Чайная. Фотография. 1910-е гг.
Дом был оборудован по высшим образцам строительства того времени: электричество и паровое отопление, парадная лестница и зеркальное фойе украшены картинами и мраморными скульптурами. Огромный – на 1000 мест! – зрительный зал, который мог превращаться в танцевальный, а кресла, выписанные из Швеции, – в диваны, стоящие вдоль стен.
Только три вещи запрещала Софья Владимировна Панина в Лиговском народном доме: спиртное, картежную игру и политическую пропаганду, ибо считала ее бесчестной по отношению к непросвещенному народу. А. Ф. Керенский, приглашенный ею давать юридические консультации рабочим, нарушил третий запрет – и от его услуг Панина отказалась.
В 1912 году Народный дом графини Паниной стал методическим центром для подобных домов в России. А было их к тому времени 316!
Будучи владелицей крупных поместий в Подмосковье, Смоленской, Воронежской губерниях и в Крыму, Панина не одобряла многие действия самодержавия, за что была прозвана в правых кругах «красной графиней». Она была председателем ряда благотворительных обществ, членом ЦК партии кадетов.
В 1915 году Панина организовала «Биржу труда», а когда Московский Художественный театр оказался в трудном финансовом положении, стала одним из его пайщиков.
В Февральскую революцию стала членом правительства Керенского и открыто выступила против большевиков.
Во Временном правительстве она была единственной женщиной. В мае 1917 года Панина заняла пост товарища министра государственного призрения, а в августе 1917 года она стала товарищем министра народного образования. Панина является первой женщиной в мировой истории XX века, занимавшей правительственную позицию такого ранга.
25 октября члены Городской думы, опасаясь, что «правительство может погибнуть под развалинами», и стремясь предупредить обстрел Зимнего дворца, послали делегацию во главе с Паниной на крейсер «Аврора». Однако войска не пропустили делегатов к кораблю.
После октябрьского переворота Панина стала членом подпольного Временного правительства, которое собиралось ежедневно на ее квартире и руководило забастовкой госслужащих. Панина отказалась передать Советской власти деньги Министерства народного просвещения, в первый же день после переворота положив их в иностранный банк на счет будущего Учредительного собрания.
28 ноября она была арестована. Над графиней учинили суд.
И вся Лиговка взбунтовалась. На суде неожиданно для всех слово попросил доброволец-защитник.
– Фамилия? – спросил судья.
– Иванов.
– Профессия?
– Рабочий.
Иванов: «Не чуждаясь народного пота и дыма, Панина учила отцов, воспитывала их ребят. Она зажигала в рабочих массах огонь знания, который усердно гасило самодержавие. Несла в народ сознательность, грамотность и трезвость. Несла культуру в самые низы… Я сам был неграмотным человеком. У нее в Народном доме, у нее в школе я обучился грамоте. На ее лекциях я увидел свет… Не позорьте себя. Такая женщина не может быть врагом народа. Смотрите, чтобы не сказали про вас, что революционный трибунал оказался собранием разнузданной черни, в котором расправились с человеком, оказавшимся лучшим другом народа…».
И, подойдя к подсудимой, он поклонился ей и сказал громко: «Благодарю вас!».
Зал устроил выступавшему овацию. И тут, чтобы исправить положение, судья объявил о выступлении еще одного рабочего, заранее натасканного «большевика Наумова». Именно это выступление потом было опубликовано в газете «Известия».
Наумов: «Я готов согласиться, что в прошлом гражданка Панина приносила пользу народу. Я верю, что среди беспросветного мрака она по благородству давала ему радость. Но – этим и отличается их благородство, чтобы бросать народу куски, когда он порабощен, и мешать ему в его борьбе, когда он хочет быть свободным. Если уж говорить о благородстве, то это благородство в прошлом и преступление в настоящем».
Большевик выступал «от имени и по поручению». Но тогда народ был еще к этому не приучен.