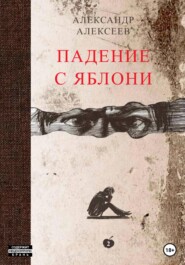скачать книгу бесплатно
– Эта Крысятина – ты представляешь? – пришла не из дому, не переодетая!..
– Как это?
– А вот так! Дома не ночевала! Всю ночь где-то поролась. Пришла на автостанцию в шесть утра и до девяти околачивалась. Я прихожу ж в девять, как договорились, а она уже ждет! Говорит: «Надо ехать домой переодеваться и подмываться». «А шо ж, – говорю, – с шести не было времени?..» Не, ну ты ж ее знаешь! С нее разве шо добьешься! Говорит: «А если я вам не смогу отдаться? Я целую ночь провела с мужчиной…» Я говорю: «Это с тем торчком? Это он мужчина?..» «Во-первых, – говорит, – он не торчок, а во-вторых, я с такими мальчиками не сплю!..» Ну, короче, эта Крысятина шо-то гонит, а шо, и сама не знает. Ее, наверно, целая бригада порола… Я вот думаю, а шо если у нас и в самом деле ничего не выйдет? А?
– Не говори глупостей. Зачем тогда ей сюда переться? В любом случае хуже, чем при своих интересах, мы не останемся. А что может быть лучше своих интересов? А?
– Шо-то она мне сегодня не нравится. На нее как найдет, ты же знаешь.
– Все это чепуха, Славик. Главное, чтобы погода не испортилась.
Небо хмурилось. В общем-то, было довольно тепло и сухо. На лужайках уже зеленела травка, пахло настоящей весной. Но сегодня, как назло, налетели тучи.
Харьковский на этом же автобусе вернулся в город, чтобы там встретить ее. Скоро уже они будут здесь. Он-то уж точно.
Проглянуло солнышко. Теплый ветерок наводит на небе порядок. Кто-то нас благословляет на это грязное дело.
115. Нагие души…
До последней минуты я сомневался, что англичанка приедет. Все еще надеялся, что она просто шутит. Но вот захожу в автобус и вижу их вдвоем.
Ни радости, ни вдохновения сей факт не возбудил. Скорее, наоборот, черная тень легла на мое настроение. Тот свинячий азарт, в котором мы находились последние сутки, вдруг покинул меня. Куда-то исчез. И теперь я был вынужден смотреть на происходящее трезвыми глазами.
Харьковский сидел унылый. Англичанка тоже хмурилась. Выглядела строгой и деловой. Было впечатление, что они не знакомы.
Я поздоровался и сел рядом. Никто не улыбнулся. Говорить было не о чем. И мы молчали.
Наконец доехали до своей остановки. Вышли, не подав англичанке руки. И она разразилась по этому поводу бранью. На брань мы ответили бранью. И, бранясь, направились гуськом прямехонько в балку. Чем вызвали неимоверное любопытство у оставшихся в автобусе пассажиров.
Дорога всем была знакома, мы двигались уверенно. Но ничто не напомнило нам о прошлогодней вылазке. И никто из нас о ней не обмолвился. В этот раз мы свернули налево, чтобы выбрать место поглуше. Ни водоемы, ни пейзажи нас уже не занимали. Забрались в самый конец балки, в посадку, за которой уже начинаются зеленые поля.
Погодка совсем разгулялась. Молодое солнышко резвилось в глубоком небе, деревья стояли еще голые, но трава под ними – как зеленая щетка. Ходить по ней не хотелось, на нее хотелось упасть. Наверное, только поэтому мы не теряли способность шутить. Мы с Харьковским шутили и смеялись. Англичанка о чем-то думала. И нам было неинтересно, о чем она думала.
Харьковский широким жестом скинул с себя куртку, расстелил ее. Мы уселись, как на пикнике. Но скатерти-самобранки не было. Никто не сообразил закуски, никто не преподнес водки.
Мы с Харьковским переглянулись и покосились на англичанкину сумку.
– Лариса Васильевна, – сказал Харьковский, – хто-то обещал водку… Хто-то хвастался, шо получил много денег…
– Какую водку? Ты что, Харьковский, пьяница? Ты пить хочешь?
– Ну, можно, вообще-то, не пить… Если вы шо-то другое предлагаете.
– На что ты намекаешь? Ничего другого для тебя у меня нет. И выкинь эти мысли из головы! Ты опять меня за блядь принимаешь?
Харьковский кисло ухмыльнулся и промолчал. Но я услышал его мысль. Она звучала громко: «Конечно, блядь, кто же еще!»
Однако к веселью это не располагало. Было слишком очевидно, что нас надули.
Я старался не выдавать разочарования. Харьковский принялся пошлить, хамить, ругаться матом и плакаться на голод. Англичанка не обращала на него внимания. И как только он отворачивался, она прилипала ко мне и начинала лить прокисшую медовуху о какой-то любви. Не то чтобы меня это раздражало, просто не испытывал никакого удовольствия. И очень хотелось, чтобы она побыстрей выговорилась и весь этот идиотизм закончился.
Но, к сожалению, он только начинался.
Очень скоро она полезла целоваться. И это было хуже всяких объяснений. Я, насколько мог, прятался от ее губ. Малейшее мое сопротивление вызывало в ней бурю и натиск. Так что я был вынужден чаще обращаться к Харьковскому, чтобы тот хоть немного охлаждал ее матерщиной, которую, надо заметить, Лариса Васильевна не любила.
Она зверела, захватывала мое лицо, слюнявила его, кусала, грызла, потом осматривала слезно. И наконец открыла великий секрет:
– Ты знаешь, Соболевский, что в глаза целуют только любимых?!
И тут же подтвердила это таким засосом, что глаз мой чуть не перекочевал к ней в рот. Я подавил вскипевшее раздражение и попросил ее любить не так сильно.
Вскоре Харьковский взглянул на меня и разразился диким ржанием, будто наконец дождался представления, ради которого сюда ехал.
Я спросил, в чем дело. И он сказал, чтобы я посмотрел на свою рожу в зеркало. Тогда я потребовал у притихшей англичанки зеркало. И она нехотя дала мне свою пудреницу. И при этом пробормотала:
– Ничего страшного… Всего лишь знак любви. На это нельзя обижаться.
Пуще прежнего заржал Харьковский. А я взглянул на себя и увидел свой правый глаз совершенно синим. Это был настоящий фонарь. И я взбесился. Я чуть не ударил ее! Чуть не сделал ей такой же фонарь.
Она принялась усердно извиняться:
– Ну прости меня. Прости, миленький! Я не хотела… Я не ожидала, что у тебя такая чувствительная кожа. Зато это говорит о том, как я тебя люблю!..
И чтобы не слышать больше извинений, я постарался забыть обиду.
Повеселевший Харьковский сделал еще одну попытку забросить сеть на англичанку. И получил тот же отпор.
Она продолжала сходить с ума.
– Я уже хочу тебя, – шептала мне в ухо.
Я отмалчивался, мучительно соображая, как все это перевести в веселое групповое удовольствие. И ничего не мог сообразить.
А она уже поднялась и потащила меня в конец посадки.
Когда Харьковский на своей куртке исчез из виду, она остановилась и спешно принялась раздеваться. Я стоял как пень и смотрел на нее. Она скинула пальто, под которым оказался домашний халат. Сняла этот халат и осталась в черном лифчике, в черных колготках и в черных сапожках… Ничего не скажешь, черное на ней смотрелось обалденно!
Я наблюдал все это без волнения. И даже успел подумать о Любаше. Англичанка перехватила мой взгляд и сказала:
– Не переживай, Соболевский, сейчас оденусь!
И накинула на себя пальто. Я понял, что все это было проделано с целью снять халат и постелить его в качестве постели. Потом она легла, сняла сапожки, колготки и трусы. И поманила к себе.
– Иди ко мне, Соболевский… Видишь, я тебя жду.
Она играла коленями, разводя их и сжимая, так, чтобы я мог видеть черный зев ее промежности.
– Лариса Васильевна, по-моему, вы это обещали Харьковскому, – сказал я.
– Ничего я ему не обещала! Чересчур много он о себе возомнил, твой Харьковский! А ты что, не хочешь? Не хочешь меня?..
Колени ее раздвинулись. Я вздохнул и принялся, что называется, исполнять функцию.
Однако очень скоро остыл. Некоторое время еще пытался возбуждаться фантазиями. Представлял себе Любашу и других девочек, которые мелькали в моей жизни. Но все эти творческие усилия сводились на нет одними ее поцелуями. Избавиться от них было невозможно.
В конце концов мне стало противно то, чем занимался. И я сделал попытку вырваться. Она вцепилась в спину ногтями, застонала.
– Не вставай, не вставай!.. Я кончаю.
Я потерпел еще минуту. Потом резко вскочил и стал застегиваться.
Она лежала, судорожно сжав голые ноги, куталась в пальто и плакала:
– Ты уже не хочешь меня? Не хочешь?.. Да, Соболевский?
И я сказал:
– Не хочу… У меня нет настроения.
– Для чего я сюда ехала? Для чего раздевалась? Для чего все это?!
Тогда выпалил напрямую:
– Вы же нас обоих любите! Насколько я знаю. Сейчас позову Харьковского, он вас всегда хочет. Так что будет полный порядок.
– Нет! Не смей! Я одеваюсь!
Она вскочила и со злостью принялась натягивать трусы, потом колготки. Колготки порвались, и она расплакалась как ребенок.
Сначала это выглядело смешно. Но потом стало жалко ее.
Пока она одевалась, я не проронил ни слова. Смотрел на нее и проклинал все на свете. Было тошно.
Харьковский лежал на своей куртке и с кислой физиономией поджидал нас.
– Шо-то вы быстро, – сказал он. – Как кролики.
– Долго ли умеючи! – пошутил я.
Англичанке шутки эти не нравились. Она молчала, вздыхала и всхлипывала.
Назад возвращались, как с похорон. Харьковский маячил впереди. Лариса Васильевна плелась рядом, подурневшая от своих дурных мыслей. До половины пути она молчала, потом на меня хлынул поток ее раскаяния.
Ей вдруг показалось, будто мое охлаждение произошло из-за нервного расстройства, вызванного засосом на глазу. А мне было в тягость идти рядом и слушать ее нытье. Становилось невыносимо от мысли, что нам предстоит еще целый час вместе ожидать автобус.
Харьковский облюбовал у тропинки копну старой соломы, прогретую солнышком, и рухнул на нее. И как только я поравнялся с ним, ноги мои тоже подкосились. Просто отказались идти. И я пристроился рядом с другом.
Англичанка, поняв наше намерение, вспылила:
– Где останавливается автобус? Я пойду сама!
Я сказал:
– Лариса Васильевна, вы прекрасно знаете, где останавливается автобус.
Она окинула меня негодующим взглядом и пошла. Харьковский для приличия окликнул ее. Негромко, чтобы вдруг она не остановилась. И она ускорила рассерженный шаг.
Гора свалилась с плеч, дышать стало легче. Мы прошлись по ее косточкам. И настроение чуть приподнялось.
Потом решили пойти ко мне домой. Она стояла на остановке вполоборота к нам. А мы, не глядя на нее, нагло прошагали мимо.
Сегодня после практики мы зашли в бурсу и нарвались на свою Кошелку. Она стояла на лестничной площадке у зеркала и пыталась что-то рассмотреть на своей физиономии. Завидев нас, она рванулась навстречу.
– Скоты! Подонки! Бросили женщину! Соболевский, ты превращаешься в настоящего хама! Ты теряешь себя! Ты становишься ничтожеством прямо на глазах! Остановись, пока не поздно! Благородство никогда не вернешь!..
– Оно, как девственность, теряется только один раз! – добавил я ей в тон.
– Чтобы завтра же принес мне мою книгу! – вскрикнула она. – Я не хочу иметь дело со свиньей! И я не верю, что ты читаешь Данте! Не верю!..
И в ответ из меня совсем непроизвольно вылилось:
– Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,
Выкрикивали господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья…
– Подлец, Соболевский!.. Какой ты подлец!!!
– Все мы подлецы, Лариса Васильевна, – тихо закончил я.
– Я тебе отомщу! – процедила она сквозь зубы. – Ты у меня еще поплачешь!
И мы разошлись.
– Это ненадолго, – сказал Харьковский. – Завтра все начнется сначала… Но классно ты ей стихи подкинул! Надо самому шо-нибудь выучить.
116. И я попятился…
В начале занятий англичанка грозилась убить меня. В конце – уже улыбалась и извинялась за вчерашние оскорбления.
– Прости меня, Соболевский, прости! Я с ума схожу от любви. Можешь оставить себе Данте на сколько хочешь. Не обижайся на женщину, которая тебя любит…
– Да я и не обижался, Лариса Васильевна. Но Данте я принесу…
– Нет-нет, не надо! Хочешь, я тебе его подарю?.. Хочешь?
– Нет-нет, спасибо. Зачем мне подарки?