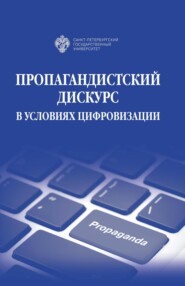
Полная версия:
Пропагандистский дискурс в условиях цифровизации
Сегодняшние объемы информации, которые получает человек, очень сложны для создания системной, а не фрагментарной картины мира. По этой причине вместо потребителя некую законченную картину зачастую пытаются конструировать пропагандисты.
Для исследования посланий пропагандистского характера крайне важен такой структурный элемент фрейма, как когнитивная схема – обобщенная и стереотипизированная форма хранения прошлого опыта относительно строго определенной предметной области (знакомого объекта, известной ситуации, привычной последовательности событий и т. д.). Когнитивные схемы отвечают за прием, сбор и преобразование информации в соответствии с требованием воспроизведения устойчивых, типичных характеристик происходящего (в их числе прототипы, предвосхищающие схемы, когнитивные карты, фреймы, сценарии и т. д.).
Теория схемы получила развитие в трудах Д. Румельхарта и Э. Ортони. Авторы трактуют схему как «структуру репрезентации данных о типичных концептах, лежащих в основе объектов, ситуаций, событий, последовательности событий, действий и цепочек действий»[235], включающую сеть взаимосвязей, которые удерживают вместе элементы концепта. Схемы обладают четырьмя основными свойствами: 1) содержат переменные; 2) могут входить в состав друг друга; 3) представляют типичные ситуации различной степени абстрактности; 4) являются структурами представления знаний, а не дефиниций.
Когнитивные схемы – это структуры, представляющие собой совокупность основных и часто бессознательных предположений о том, каков окружающий мир, какое место индивид в нем занимает и чего может ожидать от него. Схемы создаются в раннем детстве под влиянием опыта и могут оставаться скрытыми на протяжении длительных промежутков времени.
Таким образом, когнитивная схема – это своего рода шаблон, согласно которому человек получает и осмысливает информацию: оказавшись в знакомой ситуации, люди действуют по уже сформировавшейся схеме. Примером схемы может служить «осуществление покупки». Данная схема содержит следующие составляющие: товар, продавец, покупатель, способ оплаты.
Можно сказать, когнитивная схема является чем-то вроде инструкции, которая содержит несколько пунктов:
1) восприятие: что именно замечать в той или иной ситуации – человек не воспринимает всю ситуацию целиком, по крайней мере на сознательном, надпороговом уровне;
2) оценка: как оценить то, что воспринял;
3) эмоция: как переживать то, что оценил;
4) действие: как действовать под влиянием возникших переживаний.
Когнитивные модели не интерпретируют объекты или события вне нашего собственного сознания; скорее это продукты абстракции, возникающие исключительно на основе наших собственных активных познавательно-конструктивных операций. Они являются репрезентативными ценностями, поскольку не существуют вне нашего сознания. При этом функция когнитивных представлений имеет большое значение, поскольку без представлений невозможно обрабатывать информацию. Например, если два человека полемизируют, является ли смертная казнь оправданной, они оба ссылаются на когнитивную модель, предполагающую что справедливость есть (или должна быть). Назвав кого-то «фашистом», мы запускаем угрозу нашим ценностям, что вызывает автоматические реакции в ответ.
На уровне ментальности исследователи выделяют следующие типы схем:
• личностные схемы, ориентированные на конкретных людей: например, схема близкого знакомого может содержать информацию о его внешности, его поведении, его личности и его предпочтениях;
• самосхемы, сфокусированные на знании о себе; включают в себя знания человека о своем нынешнем «я» и его идеи о своем идеализированном или будущем «я»;
• социальные схемы, включающие общие знания о том, как люди ведут себя в определенных социальных ситуациях;
• схемы событий, сосредоточенные на моделях поведения, которые должны соблюдаться в определенных обстоятельствах; такие схемы действуют подобно сценарию, информирующему о том, как действовать и что говорить в конкретной ситуации.
Для целей нашего исследования – выявления маркеров пропаганды – важен именно последний вариант когнитивной схемы событий. Весьма продуктивным в этом отношении выглядит подход американского ученого У. Найссера, который рассматривает схему уже не только как средство памяти, а как средство, позволяющее сформировать ожидание, точнее образ, картину ожидаемого результата действия. Схема позволяет предвосхищать и направлять. Главная идея Найссера состоит в том, что схема – это одновременно и результат, и средство познания[236]. Такая трактовка позволяет интерпретировать когнитивную схему как процесс познания или восприятия мира, окружающей среды исходя из диапазона ряда объяснительных моделей.
Отечественный исследователь С. Володенков вплотную подошел к определению составляющих когнитивных схем, лежащих в основе пропагандистских посланий: это стереотипизация, демонизация противника, преднамеренная неопределенность и пр.[237]Вместе с тем решение проблемы типологии данных схем способствует более детальному раскрытию их содержания и, соответственно, уточнению характера направленности. Более того, классификация схем, представляющих собой основу пропагандистских посланий, является остро востребованной в современной научно-практической деятельности: ее решение позволяет не только маркировать такие послания, но и создавать контент, успешно выполняющий функцию контрпропаганды.
Удачной попыткой представить спектр таких схем являются разработки Дж. Лакоффа. Автор, настаивая на том, что схемы являются формой организации знаний, пишет: «Структура мысли характеризуется когнитивными моделями. Категории ума соответствуют элементам этих моделей»[238].
Наиболее распространенными способами организации события, которые несут человеку понятные для него смыслы, как считает Лакофф, являются схемы «беды» и «спасения». Фактически эти схемы представляют собой сценарии развития событий, образуемые следующими онтологическими элементами: начальное состояние, последовательность происходящего и конечное состояние.
Компонентами когнитивной схемы «беды» являются:
• беда (негативное состояние);
• участник, подвергшийся беде;
• причина беды;
• спаситель;
• спасение (позитивное состояние).
В когнитивной схеме «спасения» базовые элементы выглядят следующим образом:
• жертва;
• злодей;
• злодейское действие;
• герой[239].
Американский исследователь Ю. Слезкин, обращаясь в своем фундаментальном исследовании к феномену национализма, делает акцент на социализирующей функции когнитивной схемы и выделяет ее элементы, обладающие значительной спецификой:
• современное государство – семья;
• отцы-основатели;
• братья по оружию;
• сыновья и дочери нации и т. д.[240]
Анализ осуществленных исследователями разработок, а также опыта политических акций позволяет сделать вывод, что в основе типичной схемы, образующей пропагандистский посыл, лежит комплекс следующих элементов:
• наличие потенциальной/реальной угрозы;
• возможная катастрофа;
• исторические аналоги подобных ситуаций;
• враг, образ которого демонизируется;
• действия, которые необходимо совершить;
• силы, которые должны сплотиться для совершения действий.
Следует иметь в виду, что схемы, о которых идет речь, работают преимущественно в экстремальных социальных условиях: социального напряжения, военных действий, катастроф и т. д. Функционирование приведенных когнитивных схем в пропагандистских посланиях можно проиллюстрировать с помощью двух недавних кейсов: движения «желтых жилетов» во Франции и кампании против вакцинации в России.
Протест «желтых жилетов», зародившись в октябре 2018 г. как выступление против роста цен на бензин, почти сразу приобрел отчетливый антиправительственный характер: бойкотировали уже не только повышение цен на топливо, а правительство Макрона в целом.
В общественном мнении французов в этот период прочно утвердился посыл: именно от этого правительства, и в особенности от самого президента, исходит угроза обществу. Типичное понимание этой угрозы было сформулировано одним из участников движения: «Любые вопросы: экология, феминизм и равенство были извращены. Смысл этих слов специально извратили. Мы хотим вернуться к здравому смыслу. Мы хотим не косметических изменений, но изменить все до основания и во главу угла поставить не финансы, а Человека. Мы хотим вернуться к исконному смыслу этих слов»[241]. Французское общество фактически встало перед катастрофой – из социальной жизни выхолащивается само понятие человеческого[242].
Примечательно, что аналогами сложившейся ситуации идеологи движения считали исторические коллизии времен Великой французской революции, недаром граффити типа «Макрон = Людовик XVI», отсылающие к незавидной участи последнего французского короля, достаточно часто можно было увидеть как в Париже, так и в региональных центрах. Подобное же впечатление производит плакат: «Нет денег на бензин? Покупайте электромобили!» – явный намек на фразу про пирожные, приписываемую Марии Антуанетте.
Апофеоз посланий – программа «жилетов», представленная в их манифесте, опубликованном на сайте «Свободный мыслитель» (Le Libre Penseur), и состоящая из 25 пунктов. Эксперты отмечают, что текст программы, с одной стороны, во многом утопичен, поскольку в современных условиях абсолютно нереально, чтобы все масштабные политические решения принимались на референдумах, а с другой стороны, крайне эклектичен – движение представляется одновременно и левым, и правым. К примеру, если полный запрет на принятие мигрантов (пункт 24) – это повестка правых сил, то осуждение колониальной политики – ярко выраженное левое требование. В этой связи можно отчасти согласиться с мнением профессора Льежского университета Ф. Жеменна: «Борьба идет против налогов и пошлин, за повышение покупательной способности. Другими словами, против самого механизма перераспределения богатств. Я не думаю, что протестующие идентифицируют себя как правые или левые. Но их риторика все же в большей степени характерна для правых сил»[243]. В целом же создается ощущение, что политические идеи занимают в движении далеко не первое место: целью политической пропаганды сегодня выступает не столько продвижение той или иной идеологии, сколько мобилизация на платформе решения социальных задач самых различных сил. Представляется, что именно эта тенденция требует переосмысления самой дефиниции термина «политическая пропаганда».
Российский кейс, связанный с протестами против вакцинации от коронавируса, в свою очередь, иллюстрирует, как работает когнитивная схема. Правда, в отличие от ситуации с движением «желтых жилетов», в пропагандистских коммуникациях которых преобладают компоненты когнитивной схемы «беды», в российском кейсе явно прослеживается доминирование схемы «спасения». В этом случае жертвой является все население страны, подвергшееся «новой информационной коронавирусной атаке, запущенной по всей планете»[244].
Врагами в данной ситуации может выступать очень широкий круг акторов – от «мировой закулисы» (чаще всего она ассоциируется с именем Билла Гейтса) и до российских чиновников самого высокого ранга. Так, к концу 2020 г. на первый план в качестве главного врага выдвинулись лоббистские группы (в том числе и в Минздраве), которые активно продвигают интересы крупных фармацевтических компаний. В качестве подтверждения этого сторонники так называемого вакцинодиссидентства приводят следующий факт: «Неслучайно группа медиков и общественников обратилась в Следственный комитет и ФСБ с требованием привлечь Попову и других лоббистов ВОЗ и прочей партии коронавируса к уголовной ответственности по статьям об измене Родине и др.»[245].
В глазах организаторов и двигателей данной пропагандистской кампании грядущая катастрофа выглядит следующим образом: те, кто организовывал вакцинацию и в результате массовую смерть, готовят армии для вторжения на пострадавшие территории, которые уже не в состоянии себя самостоятельно защитить. Отсюда предложение добровольно объединиться в одно государство для упрощения защиты. На самом же деле речь идет об упрощении контроля за миром: единое правительство, единая валюта, единый язык. Так, идеологи движения утверждают: «Сам “коронавирус” – это обычный грипп, который используют в качестве приманки, чтобы сформировать у людей потребность в вакцинировании. То есть делаем псевдоболезнь, говорим “эта болезнь опасная” – все выстраиваются в очередь, их выборочно по плану прокалывают медленно действующим ядом с периодом действия больше 180 дней. И через год-два-три наступает летальный исход, как это было в прошлом веке. Первая мировая война, половине Европы проставили прививки от брюшного тифа – и через два года 100 миллионов человек умерли от “испанки”»[246]. Примечательно, что в этом фрагменте представлены все типологические элементы когнитивной схемы: и угроза, и вполне вероятная катастрофа, и ее исторические аналоги. Образ рекомендуемых действий укладывается в несколько простых лозунгов: «Первое – не позвольте себя уколоть непонятным дерьмом. Лечитесь сами. Массовая вакцинация – это смерть. Избегайте этого»[247].
Конечно, в нашем исследовании продемонстрирован наиболее одиозный вариант пропагандистских посланий, в большинстве случаев эти послания носят более завуалированный характер. Однако необходимо отметить: гарантом эффективного продвижения в сознание масс большинства подобных пропагандистских схем является высокий уровень энтропии – ситуация неопределенности становится благоприятным фоном для распространения различных фобий, панических настроений и создания образа врага. Академик РАН Владимир Сергиев, говоря о развернувшейся в мире «вакцинной гонке», обращает внимание на пропагандистскую роль массмедиа в создании ситуации тотальной неопределенности и нагнетании чувства страха: «СМИ перегружены темой коронавируса. Люди, помимо того, что болеют и некоторые тяжело, в основном напуганы. Если бы СМИ перестали говорить, то мы бы сделали для здоровья населения гораздо больше»[248].
Анализ кейса с вакцинацией позволяет сделать вывод: распространение пропагандистских схем в условиях энтропии приносит колоссальный эффект – по данным исследований «Левада-центра»*, к ноябрю 2020 г. 59 % россиян высказались о своей неготовности сделать прививку от коронавируса (скептиков, кстати, стало на 5 % больше, чем в августе). Еще более показательны данные опроса, проведенного «Единой Россией»: к вакцинации не готовы 73 % респондентов[249]. Поэтому изучение параметров эффективности пропагандистского воздействия, измерение этой эффективности сегодня становится одной из самых острых проблем как российского, так и международного социума.
3.3. Практика оценок эффективности пропагандистского воздействия
Пропаганда – это многомерный термин, порождающий множество ассоциаций. Традиционно пропаганда описывается как использование убедительной информации для манипулирования целевой аудиторией в соответствии с пожеланиями пропагандиста[250]. В этой модели связь осуществляется сверху вниз, а роли отправителя и получателя обычно статичны. Это классическое понимание пропаганды необходимо адаптировать к эпохе цифровых технологий. С каждым годом традиционная граница между «пропагандистом» и «целевой аудиторией все больше “размывается” благодаря Интернету и социальным сетям. Сама аудитория начинает играть все более значимую роль в распространении рекламного контента и оказывать влияние на других через личные социальные сети. Возможность делиться контентом изменила систему распространения пропаганды, теперь адресантом может быть любой человек. Симптоматично, что данный процесс получил название “пропаганды участия”»[251].
Следовательно, вовлеченность аудитории можно считать новым и одним из важнейших критериев эффективности социальных сетей. Это взаимодействие основано на связях между людьми и их доверии к контенту, публикуемому их друзьями в социальных сетях и на других платформах. Однако это доверие часто подрывается все новыми и новыми скандалами, связанными с политической проблематикой, фейками и использованием в дискурсе механизма так называемых троллей и ботов.
В связи с этим вопрос эффективности пропаганды становится ключевым и входит в сферу интересов как академических исследователей, так и практиков, работающих в области политических коммуникаций.
Рассмотрим зарубежные организации и центры, изучающие пропаганду и эффекты дезинформации.
Фёрст Драфт Ньюс (First Draft News). Организация создана в июне 2015 г. как некоммерческая организация с девятью партнерами-учредителями. Ее основной деятельностью является предоставление практических и этических рекомендаций по поиску, проверке и публикации контента из социальных сетей. На данный момент организация расширяется и имеет представительства в США, Австралии и Великобритании. Ее работники сотрудничают с Гарвардской школой Кеннеди, Высшей школой журналистики Крейга в Городском университете Нью-Йорка, Центром трансформации СМИ Сиднейского технологического университета.
Центр изучения цифровой журналистики фонда Тоу (Tow Center for Digital Journalism). Работая с момента основания в 2010 г. как институт в составе Высшей школы журналистики Колумбийского университета, организация предоставляет журналистам навыки и знания, необходимые для построения будущего цифровой журналистики, и служит центром исследований и разработок для профессии в целом. Особое внимание уделяется таким вопросам, как фейк-ньюз, пропаганда и дезинформация.
Центр Беркмана Кляйна по Интернету и обществу (Berkman Klein Center for Internet and Society). В 1996 г. профессор Гарвардской школы права Чарльз Нессон и Джонатан Зиттрейн основали Центр права и технологий при Гарвардской школе права, который вырос из семинара по актуальным вопросам Интернета. Центр поставил перед собой цель «изучить и понять киберпространство, его развитие, динамику, нормы, стандарты, а также необходимость или отсутствие таковых в законах и санкциях»[252].
В 1997 г. организация, получив финансирование из семейного фонда Беркман, изменила свое название на Центр Беркмана по Интернету и обществу при Гарвардской школе права и с тех пор постоянно расширяется, изучая новые актуальные темы, связанные с интернет-пространством.
Международная сеть по проверке фактов Пойнтер (Poynter Teh International Fact-Checking Network). «Международная сеть по проверке фактов» – это подразделение Института Пойнтера, занимающееся интегрированием разработок специалистов по проверке информации со всего мира. Сеть по проверке фактов была запущена в сентябре 2015 г. для поддержки инициатив по проверке фактов путем продвижения передового опыта и обмена в этой области.
Фонд Нимана (Neiman Foundation). Фонд Нимана представляет собой комплекс инициатив, направленных на продвижение и повышение стандартов журналистики, а также на обучение и поддержку тех, кто готов внести важный вклад в развитие этой профессиональной деятельности. Фонд располагает программой стипендий, собственным журналом и рядом издательских проектов. Часть выделенных грантов и изданных материалов связана с пропагандой, однако это не является основным направлением деятельности сотрудников фонда.
Проект новостной грамотности (News Literacy Project). «Проект новостной грамотности» основан в 2008 г. и представляет собой платформу размещения программ и других ресурсов для преподавателей, а также иных потребителей новостей. Данный ресурс публикует свои наработки по выявлению фейк-ньюс, ботов и провокационного контента в социальных сетях, а также делает подборки материалов по пропаганде.
Критик пропаганды (Propaganda Critic). Сайт организации был создан почти 25 лет назад и посвящен продвижению методов пропагандистского анализа среди критически настроенных активистов. С 2018 г., осознав, что традиционные подходы к анализу пропаганды не релевантны изучению современных политических технологий, связанных с вычислительной пропагандой, авторы подготовили несколько десятков новых статей, уделяя особое внимание когнитивным искажениям.
Исследовательский проект вычислительной пропаганды (Computational Propaganda Research Project). Проект существует с 2012 г. на базе Оксфордского университета. Основным вопросом исследований коллектива является деятельность ботов в социальных сетях. В изучении их поведения и паттернов участвуют социологи и специалисты в области информатики, основное внимание фокусируется на постах и комментариях в Twitter, Facebook* и Sina Weibo. Именно методология исследований пропаганды этого Проекта является самой популярной и известной среди всех описанных ранее организаций. Этому в значительной степени способствуют репутация и открытость платформы.
Швейцарский центр политических исследований (Swiss Policy Research). Swiss Policy Research (до мая 2020 г. – Swiss Propaganda Research) – это организация, основанная в 2016 г., которая представляет себя как «независимая, беспартийная некоммерческая исследовательская группа, занимающаяся исследованиями геополитической пропаганды в Швейцарии и международных СМИ»[253]. Хотя редакторы сайта неизвестны, они утверждают, что данная организация состоит из независимых ученых и не получает внешнего финансирования»[254]. Сайт Швейцарского центра политических исследований подвергается критике за распространение теорий заговора, особенно в отношении пандемии COVID-19, так как в своих исследованиях авторы часто используют только количественные данные и не всегда описывают методологию.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and Co-operation in Europe). Крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся международной проблематикой. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Одной из сфер интересов этой организации является свобода СМИ, и главной угрозой этой свободе считается пропаганда. Правда, необходимо уточнить: основная масса работ по данной теме опубликована ОБСЕ в период 2015–2017 гг., а сейчас организация сосредоточена на других вопросах.
Парламент Европейского Союза (European Parliament). Парламент ЕС периодически выпускает доклады, связанные с пропагандой. Однако большинство этих докладов, как, например, «Стратегические коммуникации ЕС. В целях противодействия пропаганде»[255], сосредоточены скорее на рассмотрении роли России в политике стран – членов Европейского союза и информационном противоборстве.
Обзор деятельности организаций, занимающихся исследованием форм и контента пропагандистских посланий, позволяет дополнительно подтвердить вывод: в настоящее время существует широкий спектр взглядов на то, что представляет собой пропаганда и как отслеживать эффективность ее воздействия. Существенно различается и активность данных организаций: такие ресурсы, как Propaganda Critic, занимаются исключительно сбором информации по пропаганде, в то время как ОБСЕ лишь иногда готовит отчеты, подобные «Пропаганде и свободе медиа»[256].
Нельзя обойти вниманием регион, где пропаганде уделяется особое внимание, – это Китай. Здесь проблема эффективности пропагандистских коммуникаций изучается на государственном уровне, а главным критерием такой эффективности считается количество вступивших в коммунистическую партию[257].
Вместе с тем исследователи, работающие в зарубежных центрах, в качестве типичных инструментов оценки эффективности пропаганды используют экспертные интервью, анкетные опросы, сравнение рейтингов политиков.
Большинство специалистов в области рассматриваемой проблематики утверждают, что количество просмотров информационных посланий является одним из базовых критериев эффективности распространения пропаганды. Хотя и у этой позиции есть противники. Так, Х. Аллкот и М. Генцков обнаружили, что даже фейк-ньюз, широко распространенные во время выборов 2016 г., так и не были увидены большинством избирателей – средний американец видел лишь малую часть таких новостей[258].
Другой важный аспект, который необходимо учитывать, – это различный уровень влияния на разные группы людей. На языке социологических исследований это феномен «неоднородных лечебных эффектов» (heterogeneous treatment efefcts)[259].
Одно из важных явлений в этом аспекте – «идеологическая асимметрия», которым занимались американские ученые Л. Адамик и Н. Гланс, П. Барбера и Дж. Риверо[260]. Исследователи, задаваясь вопросом, как отличается реакция правых и левых политических сил на один и тот же контент, в данном случае пытались понять, для кого пропаганда будет более эффективна.
Помимо идеологической составляющей, на эффективность пропаганды может влиять и национальная идентичность получателя сообщения. Так, например, китайские пропагандисты, по итогам проведенного исследования, пришли к выводу о нерезультативности универсального подхода к измерению эффективности влияния пропаганды и стали создавать различный контент для Кореи и США[261]. С этой целью они используют подход Р. Окабе, доказавшего, что люди, живущие в высококонтекстных культурах (например, в Восточной Азии), больше внимания уделяют невербальным и периферийным сигналам и поэтому особенно подвержены влиянию социального контекста и давления с помощью невербальных инструментов. Напротив, люди в культурах с низким контекстом (например, в североамериканском обществе) больше полагаются на словесные сигналы и, таким образом, более восприимчивы к пропагандистским посланиям в виде текстовых сообщений и писем[262].



