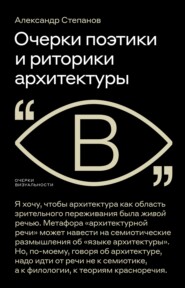
Полная версия:
Очерки поэтики и риторики архитектуры
В доводы Дженкса не случайно проскользнуло слово «художник»: «Мастерство художника зависит от его способности вызвать к жизни наш запас визуальных образов так, чтобы мы даже не осознали его намерение»208. Я думаю, Ле Корбюзье, а за ним и Дженкс не были озабочены в такой степени, как Лоос, фундаментальным различием между искусством и архитектурой. Во впечатлениях людей, видевших капеллу Нотр-Дам-дю-О, часто мелькает ее сравнение со скульптурой209. И в самом деле: оригинальность места, занимаемого этим произведением Ле Корбюзье в истории архитектуры, определяется не столько аналогиями с постмодернизмом, сколько причастностью к миру искусства.
Погребальное сооружение
Пирамида
«Лишь очень малая часть архитектуры относится к искусству – надгробие и памятник. Всё прочее, всё, что служит некой цели, следует исключить из царства искусства», – писал Лоос. Выделив в архитектуре надгробие и памятник, он не утверждал ни того, что такие объекты не имеют ничего общего с архитектурой, ни того, что они принадлежат только царству искусства (он, конечно, имел в виду искусство своего времени, искусство начала ХХ века, которое является сугубо «частным делом художника»). Лоос тем самым настаивал на их особом смысле: в его логике надгробие и памятник – это, с одной стороны, такие произведения архитектуры, в которых много индивидуального художества; с другой стороны, это такие произведения искусства, которые служат не столько художнику, сколько всеобщему благу. «Архитектура вызывает у человека определенные настроения. Поэтому задача архитектора состоит в том, чтобы уточнить определенное настроение. Комната должна выглядеть уютно, дом – пригодным для жилья. Здания суда должно корчить грозную гримасу тайному пороку. Здание банка должно сигналить: здесь твои деньги будут храниться в безопасности у честных людей. Архитектор может достичь этого эффекта при условии, что зацепится за те здания, которые прежде вызывали у людей подобные эмоции, – продолжал Лоос. – Если мы увидим в лесу холм длиной в шесть футов и шириной в три, которому лопатой придана пирамидальная форма, мы тотчас загрустим. И что-то в душе подскажет нам: здесь кто-то похоронен. Вот что такое архитектура»210. Улавливаем сходство с рассуждением Боффрана о характерах архитектурных жанров, которые зодчий заставляет почувствовать в своих произведениях.
Чем является в контексте этих рассуждений древнеегипетская пирамида? Это и памятник фараону, и погребальное сооружение, причем в качестве последнего она является и гробницей (завещавшей часть своей пирамидальной формы лесному холму, при виде которого мы тотчас испытываем грусть), и надгробием, в котором, по Лоосу, много от искусства, служащего, однако, не художнику, а всеобщему благу.
Пирамиды древнего некрополя на западном берегу Нила близ нынешнего города Эль-Гизы в течение четырех тысячелетий, до XIV века, демонстрировали свою причастность к искусству несравненно нагляднее, нежели в течение последних пятисот лет, когда их решительно переместили в разряд погребальной архитектуры. Дело в том, что изначально они были облицованы белоснежным известняком и завершались позолоченными «пирамидионами» (по-гречески – «пирамидками»). Швы каменной облицовки были почти незаметны, грани были отполированы до зеркального блеска. Отдаленное представление о том, как они когда-то выглядели, мы могли получить 13 декабря 2013 года, когда после снегопада пирамиды в течение нескольких часов оставались сахарно-белыми211.
Тщательнейшая отделка поверхности с применением драгоценных металлов характерна не для архитектурных сооружений, а для особенных вещей – для предметов роскоши. Представление о том, что внутри пирамид есть некие тоннели и камеры, существовали прежде только в виде смутных преданий и легенд, не подтверждаемых ни внешним обликом этих сооружений, ни живыми свидетельствами. Словно высеченные из известковых гор, поднимавшихся над землей в незапамятные времена, пирамиды демонстрировали монолитность и притворялись колоссальными ювелирными изделиями, то есть чистейшими произведениями искусства. Только их сверхчеловеческие размеры препятствовали такому восприятию, крепко привязывая эти искусно сделанные вещи к целям всеобщего блага через соотнесение с представлениями древних египтян об устройстве мира и о потусторонней жизни фараонов, которые с небес не переставали заботиться о своем народе.
Понадобилось каких-то двести лет, чтобы похитить пирамидионы и ободрать изумительную облицовку. В XVI веке пирамиды в Гизе приобрели нынешний брутальный вид, исключающий какие бы то ни были отсылки к произведениям искусства. Неисчислимые ступени сходящихся в точку блоков бурого известняка высотой в нижних рядах до полутора метров не могут быть ничем иным, как постройками в том смысле, который вкладывал в слово «постройка» Ингарден. Возможно, те, кто сдирал с пирамид блоки белого камня, считали, что они просто работают в каменоломнях, но в сознании европейцев, начиная с эпохи Возрождения, эти постройки благодаря своему богатому мифопоэтическому контексту стали материальной основой интенциональных предметов – произведений архитектуры.
Два больших сюжета соединялись в мифологических представлениях древних египтян: о происхождении Вселенной и о потусторонней жизни фараона. Общий мотив обоих сюжетов – Солнце. Первым общеегипетским богом Солнца был создавший самого себя Атум. В предвечные времена он появился на холме, поднявшемся из исконной водяной бездны, и сотворил других богов и Вселенную. Атума египтяне отличали от другого бога солнца – Ра, связывая первого с вечерним Солнцем, второго – с утренним и полдневным. Атума мыслили богом пред- и после-существующим, Ра – богом явленным. Охватывая день и ночь, Атум и Ра контролировали циклическое время. А жизнь фараона отнюдь не завершалась в его гробнице. Как и все жители долины Нила, он знал, что Атум изымет душу его из пирамиды и вознесет к звездным небесам, а затем фараон увидит Ра – «господина горизонта», который поможет ему воссиять на небе, «как великий бог, Господин времени, звезда нерушимая»212.
Холм, на котором появился Атум, египтяне называли «бен-бен» – и этим же словом назывался у них пирамидион – эта венчающая пирамидка, возносимая к небу гигантским телом пирамиды. Значит, и вся пирамида, взятая целиком, повторяла в многократном увеличении холм Атума. Но холмы ассоциируются у нас скорее с конической, чем с граненой формой. Почему же египтяне придавали бен-бену пирамидальную форму?
Можно объяснять это тем, что грани пирамиды складывались из призматических блоков практически без зазоров, тогда как коническая форма требовала бы трудно осуществимых операций по изготовлению почти незаметно изогнутых блоков – иначе в кладке оставались бы щели.
Но, полагаю, это могло быть побочной, а не главной причиной. Конус образует струйка песка, сыпящегося из ладони. Витрувий сказал бы, что такая форма конлокативна. В ней нет пафоса разумного творения, нет воображаемого подъема вверх. А египетским жрецам и зодчим (две эти ипостаси могли совмещаться в одном лице) надо было придумать убедительный образ миросозидающей деятельности Атума. И они придумали граненый, сориентированный по странам света, зеркально отражающий лучи солнца бен-бен – как метафору структурности солнечной Вселенной, и распространили его грани вниз в виде гигантских зеркально отполированных каменных плоскостей. Таким образом, пирамида происходит от пирамидиона, но не наоборот.
Главное требование к пирамиде как к архитектурному воплощению памяти о фараоне – неподвластность времени. Главное требование как к постройке – непроницаемость. Поэтому стереометрия пирамиды не имеет отношения к оставленным в ней галереям и камерам, которые вписывались в априорно заданную пирамидальную форму. Полированная облицовка создавала впечатление абсолютной непроницаемости.
Предположим, мифопоэтические предпосылки возникновения пирамиды именно таковы. А как обстоит дело с ее непосредственным восприятием? «Пирамида – загадочная форма, – писал Вячеслав Глазычев о пирамиде Хеопса. – Находясь у ее основания, никак не можешь представить ее действительный размер. Твердишь когда-то заученные величины: 146 м высоты, 230 м – сторона квадрата основания, угол наклона сторон 51°50´. Но все это не помогает – пирамида вовсе не возвышается над тобой и ничуть не подавляет: ее грани и ребра стремительно уносятся вверх или вбок, и от чувства реальности не остается и следа. Отойдешь от пирамиды на полкилометра – опять непонятно: не с чем сравнивать, кроме соседних пирамид, а тут ещё перспектива играет с тобой в странные игры, и гораздо меньшая (это знаешь, а не видишь) пирамида Микерина при той же форме кажется безумно далекой. Только с большой дистанции – с 10–15 км – видно, как велики великие пирамиды»213.
Таковы впечатления человека, видевшего не белоснежные пирамиды со сверкающими пирамидионами, а их экорше, оставленные на всеобщее обозрение безжалостными строителями дворцов мусульманских владык XIV–XVI веков. Что же происходило бы с нашим чувством реальности, если бы пирамиды дошли до нас в первоначальном виде?
Гробница Эврисака
Древние римляне хоронили умерших не за рекой, как поступали египтяне, а за померием – чертой, вспаханной, по преданию, Ромулом при основании города, позднее освященной Сервием Туллием и обозначавшей границу Рима в юридическом смысле. Запрет на захоронение в померии не распространялся только на достойнейших мужей – summi viri. Земля за пределами померия считалась не Римом, а принадлежавшей Риму. Как ни странно, даже при Августе в померий еще не включались некоторые территории, издавна защищенные стеной Сервия, например Капитолийский и Авентинский холмы.
Если имярек сам не подумал заблаговременно об увековечении памяти о себе, об этом должны были позаботиться его близкие. Поэтика римского надгробия предполагала, что на нем имеется эпитафия с именем покойного, сообщением о его гражданском статусе, профессии и, желательно, некой выдающейся заслуге. У римлян не было представления о гробнице как о доме умершего, но в эпитафии могли использоваться фигуры речи, создававшие иллюзию непосредственного обращения умершего как бы из его ушедшей в прошлое жизни к человеку, оказавшемуся близ надгробия. Прочитать имя покойного вслух (практиковали ли римляне чтение молча – неизвестно) – в этом, собственно, и состоял индивидуальный магический акт поддержания памяти о покойном. Многократно приумноженный всеми, кто останавливался перед надгробием, этот акт становился живой частицей общественной памяти, которая должна была стать бессмертной. Разумеется, собственник надгробия стремился воздвигнуть его на видном месте, придать ему привлекательный облик и разместить эпитафию так, чтобы ее было удобно читать. Тем самым повышался шанс, что имя усопшего закрепится в памяти многих соотечественников.
Потребность преуспевающих граждан в увековечивании себя и своего вклада в общественную жизнь заметно возросла в инновационной атмосфере перехода от Поздней Республики к принципату Августа. Самая живая конкуренция за внимание прохожих к надгробиям возникла на пригородных участках дорог, связывавших Рим с миром: ведь чем ближе находился памятник к воротам города, тем большее количество путников могло обратить на него внимание. По сторонам Аппиевой, Лабиканской, Пренестинской и других дорог вырастали одно за другим весьма своеобразные погребальные сооружения, каждое из которых соперничало с ближайшими за внимание путника. Рим провожал и встречал людей пиаром покойников.
На пике моды на все египетское, выросшей из переплетения личных и политических судеб Антония, Клеопатры и Цезаря, претор Гай Цестий воздвиг около 15 года до н. э. в начале Остийской дороги мавзолей в виде пирамиды высотой тридцать шесть метров. Бетонное тело пирамиды с фресками в погребальном зале Цестий велел облицевать полированным белым мрамором в подражание великим пирамидам Эль-Гизы. Риторическая убедительность претензии Цестия на вечную память производила столь сильное впечатление, что в Средние века его пирамиду считали ни много ни мало гробницей Рема, брата Ромула. Беломраморную облицовку с нее не содрали благодаря тому, что около 275 года она оказалась встроена в Аврелианову стену.
В 1838 году по распоряжению папы Григория XVI были освобождены от остатков Аврелиановой стены ворота Порта-Маджоре, построенные еще при императоре Клавдии. С внешней стороны ворот, на развилке важных древних дорог – Лабиканской (ныне виа Казилина) и Пренестинской, – обнаружилось странное сооружение. Теперь мы видим эту призму десятиметровой высоты со сторонами длиной девять, семь, пять и четыре метра, стоящую на высоком туфовом подии и облицованную по кирпичной кладке травертином. Восточная грань была разрушена в древности, а три сохранившиеся, как заметила Лорен Питерсен, похожи скорее на монумент времен Муссолини, чем на строение двухтысячелетней древности214.
Более приземистая цокольная часть сооружения составлена из вертикальных цилиндров диаметром около девяноста сантиметров, на северной и южной гранях плотно сомкнутых парами между сжимающими их плоскими столбами. Выше на плоских гранях зияют три яруса отверстий неких труб примерно того же диаметра, чуть выступающих из стены. На западной грани их шесть; на север, к Пренестинской дороге, когда-то было обращено пятнадцать; на юг, на Лабиканскую дорогу, смотрело девять; всего их было тридцать, из коих сохранились двадцать шесть. Как выглядела восточная грань, неизвестно, но историки архитектуры единодушны в мнении, что она-то и была главной, встречавшей всех, кто приближался к Риму.
Стилистическая интуиция Питерсен мне импонирует: так мог бы выглядеть монумент, сооруженный в году эдак 1935‐м в честь доблестных римских водоснабженцев и канализаторов. Благодаря риторическому гению неизвестного нам архитектора его произведение озадачивает, велит замедлить шаг, подойти, присмотреться. Можно не сомневаться, что эту программу оно с таким же успехом выполняло и две тысячи лет тому назад – может быть, даже лучше, чем пирамида Цестия. Ведь Цестий ориентировался на довольно широко известные в Риме египетские прецеденты, и его мавзолей стал родоначальником бесчисленного множества аналогичных погребальных сооружений, начиная с древности вплоть до надгробия любимых собачек Екатерины II в Екатерининском парке Царского Села и некрополей XIX века. А строение на когда-то очень оживленной развилке Пренестинской и Лабиканской дорог не имеет аналогов в мировой архитектуре и отличается от лапидарной формы пирамиды наличием разнообразных крупных и мелких деталей. Просто невозможно пройти мимо него, не задержавшись хотя бы ненадолго. Причем по какой бы дороге вы ни шли, вы видите его не в перспективе оси, упирающейся в фасад, а с угла, что лишь обостряет любопытство215.
Присмотримся. На поясе между нижней и верхней частями призмы высечена эпитафия, одинаковая на трех сохранившихся гранях: «Сие есть памятник Марку Вергилию Эврисаку, пекарю, поставщику, государственному служащему». Углы верхней части выделены пилястрами с будто из теста вылепленными капителями, которые предвосхищают еще не сформировавшийся тогда композитный ордер. Пилястры держат фриз, на котором изображены последовательные стадии приготовления хлеба. Зачем было дублировать изображениями вербальное сообщение о профессии Эврисака? Дело в том, что грамотных в Риме было не более пятнадцати процентов населения. И хотя фриз высотой шестьдесят сантиметров, расположенный в восьми с половиной метрах над головами прохожих, нелегко разглядеть во всех подробностях, он благодаря некогда яркой раскраске, выделявшей ключевые моменты, позволял и неграмотным уловить род занятий Эврисака. Более того, рельефы фриза давали представление о государственном значении предприятия этого пекаря и предлагали подумать с уважением о безымянных работниках, постоянно обеспечивавших население Рима хлебом. Хлеб в те времена был основой рациона и плебеев, и легионеров, и случались перебои в поставках продовольствия216.
От сцен, представленных на рельефе, взгляд человека, даже несведущего в пекарном деле, возвращался уже с пониманием к главным архитектурным деталям гробницы. На западном конце северного фриза изображена цилиндрическая емкость, которая, судя по фигуре склонившегося над нею работника, имела бы в действительности такой же диаметр, что интересующие нас травертиновые цилиндры и трубы. Из емкости торчит посредине толстый стержень, приводимый во вращение лошадью. Это тестомес – каменный чан для замеса теста. Зодчий смело использовал натуральные тестомесы в качестве главного элемента декора гробницы пекаря. Каждый цилиндр нижнего яруса гробницы составлен из трех таких чанов, поставленных друг на друга. Эта забавная пародия на украшение аристократических гробниц того времени все большим числом колонн классических ордеров – прототип «пролетарского» ордера Ивана Фомина и бетонных столбов-«пилоти» Ле Корбюзье. А то, что могло показаться устьями труб, – те же чаны, опрокинутые на бок. На их днищах обнаружена ржавчина от железных креплений деревянных стержней, к которым приделывались лопасти тестомесов. Деревянные детали истлели или были выломаны, а железные в незапамятные времена украдены (обычная практика обращения потомков с металлическими деталями древних конструкций)217. По нынешним понятиям, гробница Эврисака – грандиозный ассамбляж из стандартных предметов производственного оборудования.
«Римские ораторы знали, что лучший метод запоминания речи – размещать в задуманных архитектурных местах важнейшие образы, имеющие отношение к запоминаемым темам. Памятник Эврисака с его различными сценами и уникальными формами, каждая из которых ассоциировалась с неким аспектом его дела, кажется родственным мнемонической системе, построенной на принципе маршрута, в примечательных местах которого находятся идеи и мысли. Даже в наши дни люди чаще всего называют этот памятник „гробницей пекаря“»218.
Гробницу Эврисака датируют приблизительно 50–20 годами до нашей эры. Существует ли на свете более ранний пример «говорящей архитектуры»? Так же, как знаменитый кенотаф Ньютона, спроектированный Булле, гробница Эврисака была, по всей вероятности, кенотафом, ибо погребальной камеры в ней не обнаружено219.
Колонна Траяна
Будь моя воля, я включил бы в список чудес света, наряду с Пантеоном и Колизеем, колонну Траяна. Ее тридцатиметровый ствол составлен из семнадцати колец каррарского мрамора высотой с человека, диаметром в среднем 3,75 метра и толщиной 55 сантиметров. Вес каждого кольца – около двадцати тонн. Внутри – витая лестница до самого верха.
Это инженерное чудо было воздвигнуто Аполлодором Дамасским в северной части форума Траяна в 106–113 годах, после возвращения Траяна из победоносного похода за Дунай против даков. Капитель колонны тосканская, но с иониками; ионическая база стилизована под лавровый венок. Наверху первоначально находился орел, а после смерти Траяна – бронзовая позолоченная статуя императора.
Но колонна прославилась не столько высотой (сорок метров вместе с пьедесталом), сколько еще одним чудом – обвивающим ее двадцатью тремя витками рельефом, на котором изображена история обеих Дакийских кампаний: 101–102 и 105–106 годов. Среди двух с половиной тысяч действующих лиц девяносто раз появляется сам Траян. Ширина рельефа – метр тридцать, высота фигур вдвое меньше. Он был пестро раскрашен, детали позолочены. На сторонах кубического пьедестала высотой в пять с половиной метров изваяны трофеи и лавровые гирлянды. С южной стороны – вход под посвятительной надписью: «Сенат и народ римский императору Цезарю Нерве Траяну Августу, сыну божественного Нервы, Германскому, Дакийскому, великому понтифику, наделенному властью народного трибуна в семнадцатый раз, императору в шестой раз, консулу в шестой раз, отцу отечества, для того, чтобы было видно, какой высоты холм был срыт, чтобы освободить место для возведения этих столь значительных сооружений»220. За дверью – небольшое помещение, откуда начинается лестница, освещаемая сорока тремя незаметными снаружи вертикальными амбразурами.
Колонну Траяна обычно описывают как автономный архитектурный объект, львиную долю внимания уделяя фризу, который почти всегда рассматривают, не считаясь с реальными условиями восприятия, как если бы это был свиток, развернутый на рабочем столе исследователя. В целом ее характеризуют как триумфальный памятник – прототип колонны Марка Аврелия в Риме, Вандомской в Париже и колонны Нельсона в Лондоне.
Достаточно, однако, обратить внимание на особенности ее расположения в комплексе форума, как аналогия с этими памятниками уступает место различиям. Просторная площадь перед базиликой Ульпия, казалось бы, напрашивалась на то, чтобы отметить ее середину грандиозной вертикалью. Однако в этой точке поставили конный монумент императора, а колонну Аполлодор спрятал в квадратном дворике, ограниченном с юга базиликой Ульпия221, с востока и запада соответственно – греческим и латинским корпусами библиотеки Ульпия, с севера – храмом Божественного Траяна.
Из города римлянам была видна только верхняя часть колонны. Чтобы увидеть ее целиком, надо было пройти сквозь кишевшую народом базилику, площадь которой раз в двадцать превосходила дворик, отведенный колонне. Выйдя к ней через одну из двух небольших дверей, вы оставляли позади мир судебного красноречия, делового азарта, суеты, толчеи, многоголосого гама – всего того, что можно назвать vita activa, жизнью деятельной, – и перед вами открывались возможности vita contemplativa – жизни созерцательной. Открытый небу дворик, вертикальное измерение которого несравненно значительнее горизонтального, был полной противоположностью необозримого интерьера базилики, простирающегося вдаль и вширь. Колонна устремлялась к небу, словно желая сбросить напряжение, созданное зданиями, стеснившими ее основание. При взгляде от подножия она казалась гораздо выше действительной высоты. Вглядываясь в обвивающий ее рельеф, вы могли попытаться приобщиться к истории завоевания Дакии, но, не имея возможности отойти от пьедестала, видели и различали немногое. Можно было, обойдя колонну, подняться по широкой лестнице в храм Божественного Траяна или направиться в библиотеку, со второго этажа которой хорошо был виден малый кусок фриза (столь же небольшой фрагмент можно было видеть с террасы базилики). Однако какой бы вариант поведения ни выбрал римлянин, он, находясь у пьедестала колонны, вряд ли не помнил, что за дверью стоит золотая урна с прахом Траяна.
Вот эта-то реликвия и была причиной странного размещения грандиозной колонны в неподобающе, как нам кажется, тесном дворике. Ибо Траян, решив воздвигнуть памятник, увековечивающий его имя, вероятно, с самого начала видел в нем свое будущее надгробие. Помещение в пьедестале предназначалось для его урны. Но он не афишировал свое намерение, потому что неслыханная личная претензия быть похороненным в границах померия, будучи выражена публично, вошла бы в досадное противоречие с дорогим сердцу большинства римлян образом солдатского императора, каковым Траян и был на самом деле. Зачем разрушать репутацию, честно завоеванную в боевых походах? Пусть колонна станет надгробием лишь с того момента, когда в камере за дверью схоронят его останки222. А пока этого не произошло, здесь могли совершаться жертвоприношения покровительствующим императору богам, храниться боевые штандарты или свитки составленного Траяном описания его походов223.
Обсуждая гробницу Эврисака, мы убеждались, что поэтика римского погребального сооружения предполагала его максимальную доступность для всеобщего обозрения. Почему же надгробие Траяна не соответствовало этому требованию? Дело в том, что гробница императора – особый случай. Она должна была запечатлевать навеки память о древнем обряде, сопровождавшем сожжение тел почивших императоров224. Для сакрализации места, на котором совершался этот обряд, следовало выбрать его близ храма, посвященному усопшему, и четко ограничить другими зданиями – что и сделал Аполлодор. Высоко вознесенная над городом статуя Траяна отчасти компенсировала изолированное размещение надгробной колонны: в сознании каждого, кто видел блиставшую позолотой фигуру на фоне неба, проносилось: «Траян».
Современный исследователь иронически заметил: чтобы рассмотреть знаменитый рельеф колонны, зритель «вынужден бегать кругами наподобие цирковой лошади»225. Однако ирония тут неуместна. То, что зрителю приходится «бегать кругами», – не промах исполнителей воли императора, а их цель. Ибо надгробие, в отличие от произведения искусства (вспомним различие, проведенное Лоосом), предназначалось не для эстетического переживания, а для магического укрепления памяти о покойном, а в данном случае еще и для совершения заупокойного ритуала или хотя бы для воспоминания о нем. Древний обряд кремации императорских останков был таков: складывали погребальный костер из поленьев, тростника и хвороста, придавая ему вид алтаря, иногда очень высокого; украшали его коврами и разрисованными тканями; вокруг в знак траура втыкали в землю ветви кипариса; водрузив наверх ложе с покойным, поджигали костер факелами, и легионеры в полном вооружении троекратно совершали круг почета226. Надгробие Траяна должно было побуждать всякого, кто приблизился к нему, к круговому движению, символически эквивалентному кругам почета вокруг погребального костра. Это движение было неосознанным, ибо зритель просто хотел рассмотреть рельеф.

