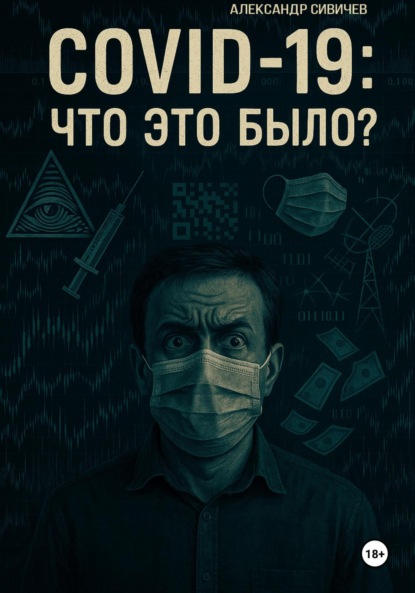
Полная версия:
COVID-19: Что это было?
Аналогичная логика прослеживается и в европейском опыте. После Второй мировой войны, в условиях восстановления государств и высокой подвижности населения, страны Европы регулярно сталкивались с угрозами – грипп, корь, полиомиелит, менингит, туберкулёз. В ответ создавались национальные системы эпиднадзора, улучшалась диагностика, вводились прививки, но меры всегда соотносились с текущей угрозой. Эпидемии воспринимались как вызов системе здравоохранения, а не как повод для заморозки общества.
Даже в условиях высокой смертности – например, в случае с гонконгским гриппом в 1968–1969 годах, когда в некоторых странах Европы умерли десятки тысяч человек, не применялись ни локдауны, ни остановка экономик, ни цифровая идентификация граждан. Школы, транспорт, учреждения работали в обычном режиме. Информационная политика строилась на сдержанности и уважении к публике. Никто не говорил о «новой нормальности», не создавал атмосферу перманентного кризиса. Медицина действовала в рамках существующих ресурсов, а государство не стремилось навязать поведенческие модели, выходящие за рамки санитарной необходимости.
В этом сходстве между социалистическим, капиталистическим и авторитарным опытом есть важный смысл. Независимо от политической системы, государства до начала XXI века сходились в одном: инфекция – это задача медицины, а не механизм переподчинения общества. Санитарные меры применялись там, где это было оправдано, и ровно на тот срок, пока они были необходимы. После этого страна возвращалась к нормальной жизни без остаточных «наследий чрезвычайного положения».
Именно по этой причине реакция на COVID-19 не может быть объяснена ссылками на исторический прецедент. Напротив, она представляет собой отказ от всего накопленного эпидемиологического опыта и переход к совершенно иной парадигме – парадигме, в которой вирус стал поводом, но не причиной, в которой санитария отступила перед управлением, а борьба с болезнью была подменена перестройкой самого общества.
В исторической практике эпидемия всегда рассматривалась как объект здравоохранения. Это означало, что решение задачи принадлежало специалистам, имеющим медицинское образование, эпидемиологическую подготовку, опыт работы с инфекциями. Вмешательство осуществлялось через инструменты санитарии, профилактики, локализации очагов, временной изоляции, вакцинации проверенными средствами. Главная цель состояла в том, чтобы восстановить нормальное функционирование общества при минимальных потерях и как можно быстрее вернуть граждан к обычной жизни.
Это понимание эпидемии как технической задачи отражалось во всём: в том, кто принимал решения, как они обосновывались, на какие данные опирались, как велась коммуникация с населением. Политическое руководство, как правило, не вмешивалось в санитарные процедуры – максимум, что требовалось, это обеспечение финансирования и организационной поддержки. Основную нагрузку несли СЭС, инфекционные больницы, местные органы здравоохранения. Всё строилось на чётком разграничении: инфекция – это вопрос медицины, а не повода для изменения базовых принципов управления.
Это разграничение обеспечивало не только эффективность, но и предсказуемость. Люди понимали: эпидемия – это временно, это не означает смену правового режима, не приводит к отмене свобод, не требует новых политических деклараций. Эпидемия не превращалась в повод для перестройки государственной архитектуры. Государство реагировало, но не превращало борьбу с болезнью в самостоятельную доктрину. Ни в одной из крупных эпидемий XX века не вводились постоянные инструменты контроля за перемещением граждан, не создавались базы медицинских данных, не появлялись цифровые системы поведенческого отслеживания, не менялись ключевые нормативные акты по защите прав человека.
Тем самым эпидемия сохранялась в рамках своей природной природы – она оставалась биологическим явлением, требующим технического реагирования. Государство действовало как санитарный регулятор, но не как преобразователь самого общественного порядка. Даже в жёстких режимах, таких как Китай времён SARS или Советский Союз времён вспышек холеры, медицинские меры не трансформировались в систему управления населением после окончания угрозы.
COVID-19 стал радикальным разрывом с этой традицией. Уже в первые недели наблюдался переход от медицинской логики к политической. Вводились меры, не имеющие отношения к эпидемиологии, зато прекрасно укладывающиеся в модели управления поведением: контроль за передвижением, цифровые пропуска, алгоритмы отслеживания контактов, QR-системы, санкции за инакомыслие. Впервые болезнь стала основой не просто санитарных ограничений, а новой архитектуры подчинения. Эпидемия перестала быть объектом здравоохранения. Она стала оправданием для внедрения механизмов, ранее невозможных ни в одной правовой системе. Это было не продолжение медицинской логики – это была её замена.
Контраст между историческим подходом к эпидемиям и тем, что произошло во время COVID-19, настолько резок, что его невозможно объяснить ни развитием медицины, ни сложностью самого вируса. Он указывает не на эволюцию санитарной логики, а на смену модели. Впервые эпидемия стала не только и не столько медицинской задачей, сколько основанием для вторжения в те сферы жизни, которые ранее не подлежали регулированию со стороны органов здравоохранения: передвижение, образование, экономическая активность, межличностные контакты, свобода высказываний, религиозные практики, доступ к базовым правам.
Прецедент был создан быстро, без предварительного обсуждения, без парламентских процедур, без экспертной оценки последствий. В течение считанных недель граждане разных стран мира оказались в ситуации, когда базовые свободы были отменены на неопределённый срок, а поведение контролировалось не через медицину, а через цифровую инфраструктуру. Человек больше не был просто потенциальным носителем вируса – он стал объектом цифрового контроля, за которым наблюдают, чьё местоположение фиксируется, чьи действия фильтруются алгоритмами, чьи убеждения подвергаются оценке на соответствие «официальной линии».
Эпидемия, которая в классическом смысле требовала чёткого медицинского реагирования, вдруг превратилась в платформу для технологических, правовых и социально-политических нововведений, не имеющих отношения к борьбе с инфекцией. Повсеместно вводились приложения для отслеживания контактов, QR-пропуска, требование предъявления медицинского статуса для доступа к транспорту, общественным местам, образованию, работе. Ни один из этих механизмов не был временным. Наоборот, инфраструктура строилась как долговременная. Акт чрезвычайной санитарной меры быстро трансформировался в норму, подкреплённую технологией и бюрократией.
Особенно резонансным стало то, как эпидемия использовалась для контроля над информацией и мнениями. Публичные дискуссии, сомнения в эффективности мер, вопросы о происхождении вируса и даже ссылки на официальные документы, противоречащие текущей линии, начали восприниматься как угроза общественному порядку. Под предлогом «борьбы с дезинформацией» началась цензура в масштабах, не имевших аналогов в демократических обществах. Наука была подменена консенсусом, а здравый смысл – лояльностью к инструкциям. Это стало вмешательством уже не в сферу здравоохранения, а в сознание.
Таким образом, COVID стал прецедентом не потому, что оказался особенно опасным вирусом, а потому, что позволил размыть границы между медицинским регулированием и управлением жизнью в целом. Это был первый случай в истории, когда эпидемиологический повод был использован как инструмент всеобъемлющего воздействия на структуру общества, права личности, экономические отношения и архитектуру власти. Именно поэтому анализ COVID невозможно ограничить рамками медицины. Это – событие, открывшее новую эру. И для того чтобы понять её, необходимо рассматривать произошедшее не как болезнь, а как управленческую модель, замаскированную под санитарную необходимость.
Глава 2. Структура COVID-реакции: признаки управляемости
Несоответствие реакции тяжести угрозы
Любая чрезвычайная ситуация требует адекватной оценки угрозы. Это основа стратегического реагирования: меры должны соотноситься с масштабом, динамикой и характером опасности. В случае COVID-19 с самого начала наблюдалось систематическое расхождение между реальными медицинскими показателями и масштабом административной реакции. Вирус, который по своей летальности и структуре поражения уступал множеству известных патогенов, спровоцировал набор мер, беспрецедентных по масштабу, продолжительности и степени вмешательства в базовые свободы человека.
На ранних этапах распространения SARS-CoV-2 не было достоверных оснований для того, чтобы классифицировать его как катастрофическую угрозу. Данные из Уханя, позднее подтверждённые в Европе и США, указывали на относительно низкую летальность в общей популяции, с выраженной концентрацией риска в группе пожилых и лиц с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Возрастной профиль заболеваемости был чётко очерчен, как и статистически незначительный риск для детей и здоровых взрослых. Большинство заражённых переносили инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. В обычной эпидемиологической логике это означало необходимость защиты уязвимых групп, обеспечения устойчивости системы здравоохранения и запуска точечной профилактики – но никак не глобальную остановку экономик и жизнь «по пропускам».
Тем не менее реакция пошла по иному пути. Были введены тотальные ограничения: повсеместные локдауны, запреты на передвижение, закрытие школ, остановка транспорта, прекращение работы предприятий, принудительная изоляция, масочный режим, закрытие границ. Это сопровождалось агрессивной риторикой, запугиванием, психологическим давлением через СМИ и внедрением цифровых инструментов контроля. Причём такие меры вводились синхронно во многих странах, несмотря на различия в реальной эпидемиологической ситуации. Это уже само по себе указывает на координацию, а не на спонтанную реакцию.
Никогда ранее – даже в случае с более смертоносными патогенами, включая сезонный грипп в тяжёлые годы, вирус Эбола или атипичную пневмонию – не вводились меры такого масштаба и продолжительности. Локдауны не применялись как инструмент санитарного регулирования в глобальном масштабе. Массовое закрытие образовательных учреждений, уничтожение малых бизнесов, уголовные наказания за нарушение «режимов» – всё это было новым. Не новым в техническом смысле, а новым по самой своей логике: государство действовало не как защитник, а как администратор новой реальности.
Если реакция превышает по масштабу саму угрозу, это указывает на наличие внешней цели. Такая реакция не является результатом ошибочного анализа или паники – тем более, если она поддерживается и продлевается при наличии обратной связи и накопленных данных. Это говорит о заранее определённой линии поведения, которая развёртывается независимо от биологической логики. Такого рода несоответствие – один из классических признаков управляемого кризиса, в котором повод важнее причины, а реакция важнее угрозы.
Одним из самых наглядных признаков того, что происходящее во время COVID-19 выходило за рамки классической эпидемиологической логики, стало массовое нарушение и подмена санитарных протоколов. Меры, которые применялись по всему миру, зачастую не имели никакого отношения к реальному риску, а иногда даже вступали в прямое противоречие с базовыми принципами инфекционного контроля. Это касалось всех уровней – от стратегических решений до повседневных инструкций для граждан.
Особенно показательно поведение властей в сфере транспорта. В условиях, когда вирус считался особо опасным и требовалось ограничение контактов, не предпринималось никаких серьёзных действий по дезагрегации потоков в метро, поездах и автобусах. Граждан заставляли носить маски и соблюдать дистанцию на улице, но при этом массово перевозили людей в переполненных вагонах, не вводя сменных графиков, не увеличивая количество рейсов. Это не просто несоответствие – это демонстративный отказ от здравого смысла, заменённого имитацией борьбы.
Сходным образом действовали власти в отношении открытых пространств. Во многих странах были закрыты парки, набережные, леса, пляжи – те зоны, где вероятность заражения минимальна в силу естественной вентиляции и отсутствия плотного контакта. Людям запрещали находиться на свежем воздухе, а иногда даже штрафовали за прогулку в одиночку или занятия спортом на открытом воздухе. Это абсолютно противоречит любому пониманию вирусной эпидемиологии. Вирусы респираторного типа распространяются в условиях плотной скученности, в замкнутых помещениях – но именно туда в итоге загоняли людей, лишая их возможности быть в безопасной среде.
Масочный режим – ещё один элемент, полностью потерявший связь с медицинской логикой. Маски применяются в медицинской практике в строго определённых условиях: при непосредственном контакте с инфицированными, в стерильных зонах, на короткий срок и в сочетании с другими мерами. В ситуации с COVID-19 маски стали не медицинским инструментом, а символом подчинения. Их носили в одиночестве, в автомобилях, на улице. Материалы, из которых изготавливались маски, в большинстве случаев не имели никакой фильтрующей способности. Маски использовались повторно, носились неправильно, не подвергались замене. Это не могло остановить распространение вируса, но эффективно сигнализировало об участии в «правильной» модели поведения.
Ещё более критичен был сбой в системе госпитализации. Вместо того чтобы увеличить число коек, развернуть специализированные учреждения и обеспечить сегрегацию пациентов, многие системы здравоохранения перешли к централизованному приёму «ковидных» больных с полной остановкой плановой помощи. Это привело к масштабному дефициту медицинской помощи при других заболеваниях, росту смертности от неинфекционных причин и формированию очередей в системе, которая ранее справлялась даже с сезонными пиками нагрузки. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом, травмами оказывались в худшем положении, чем в периоды обычного функционирования системы. Это не борьба с инфекцией, это подрыв всей медицинской инфраструктуры под предлогом её защиты.
Во всех этих случаях наблюдается общий шаблон: меры применялись не по критерию эффективности, а по признаку демонстративности. Решения принимались не эпидемиологами, а административно-политическими структурами, ориентированными на публичную картинку, страх, символические акты и управляемость. В классической медицине такой подход недопустим. Но в управляемом кризисе именно он и становится основным: не устранение угрозы, а управление реакцией на неё.
Один из самых труднообъяснимых феноменов пандемии COVID-19 – это поразительная синхронность действий, проявившаяся практически во всех крупных странах. Несмотря на различия в системах здравоохранения, экономике, плотности населения, политических режимах и даже эпидемиологической ситуации, набор ключевых решений и сам характер реакций был практически идентичен. Это не может быть объяснено ни научным консенсусом, ни «естественной» эволюцией управленческих решений. Скорее, это указывает на централизованную или полуцентрализованную модель координации.
В течение марта–апреля 2020 года правительства десятков стран, независимо друг от друга, ввели почти однотипные меры: жёсткие локдауны, закрытие границ, обязательную изоляцию, прекращение внутренних и международных перемещений, остановку производств, удалённую работу, масочный режим, штрафы за нарушение «режимов», запуск цифровых платформ для слежения. Эти меры не были привязаны к числу случаев, к уровню смертности или перегрузке больниц. В ряде стран ограничения вводились до того, как вирус достиг эпидемического уровня. В других – сохранялись даже при полном отсутствии вспышек. Принцип был один: если решение принято в одной стране, оно должно быть воспроизведено в других.
Особенно это касается системных элементов – цифровой идентификации, QR-кодов, ограничений на посещение общественных мест, перехода к безналичным расчётам, остановки образования и дистанционных платформ. Всё это было реализовано по единому шаблону. Даже формулировки в официальных документах и в медиа часто совпадали дословно: «новая нормальность», «сохранение жизни важнее свободы», «пандемический паспорт», «вирус не знает границ». Это не результат случайного совпадения. Это риторика, заранее подготовленная и разосланная в соответствующие структуры.
Вопрос о том, кто именно координировал такие решения, открыт, но сам факт координации не подлежит сомнению. Основные каналы, по всей видимости, шли через Всемирную организацию здравоохранения, а также через платформы, ассоциированные с наднациональными структурами – Всемирным экономическим форумом, фондами глобального здравоохранения и частными партнёрствами (Gavi, CEPI, Wellcome Trust). Эти структуры заранее участвовали в моделировании сценариев пандемий (таких как Event 201), имели прямой доступ к государственным регуляторам и СМИ, а также обеспечивали финансирование ключевых направлений – от медицины до цифровой инфраструктуры.
Показательно, что в странах с противоположными политическими системами – от либеральных демократий до жёстких авторитарных режимов – применялись одни и те же меры, без значительного сопротивления внутри элит. Это может говорить либо о крайне эффективной глобальной сети влияния, либо о наличии скрытого центра принятия решений, работающего через доверенные каналы – неформальные встречи, закрытые меморандумы, международные соглашения. В любом случае мы имеем дело не с независимыми реакциями, а с сетью взаимозависимых действий, запущенных по общему сценарию.
Самый важный вывод здесь в том, что мера, принятая одновременно и одинаково разными странами без объективной необходимости, почти всегда является результатом согласования. А в случае согласованности – речь идёт уже не о медицине, а о стратегии. И тогда события перестают быть хаосом. Они становятся операцией.
Если попытаться свести воедино всю структуру COVID-реакции – от несоответствия угрозе и нарушения протоколов до синхронности мер – становится очевидно, что главной движущей силой стал не вирус как таковой, а состояние массового страха. Именно страх оказался основным инструментом воздействия, через который стало возможным быстрое принятие беспрецедентных ограничений, разрушение правовых норм и внедрение новых механизмов контроля.
Страх использовался как технология. Это не был побочный эффект или неконтролируемая эмоция общества. Напротив, информационная политика большинства стран с самого начала строилась на подчёркивании опасности, неопределённости и ужаса. Отдельные случаи смерти здоровых людей преподносились как обобщённые примеры, реальная смертность не сравнивалась с сезонными уровнями, статистика подавалась в виде нарастающих итогов, создавая иллюзию бесконечной угрозы. Каждый день в течение месяцев в новостях появлялись заголовки с цифрами новых «заражений», без пояснения, сколько из них тяжёлых, сколько бессимптомных, сколько ложноположительных.
Страх усиливался за счёт визуальных приёмов. Картинки с переполненными больницами, военными грузовиками, запечатанными подъездами, специально отобранные кадры из отделений интенсивной терапии – всё это транслировалось в медиаполе как универсальная реальность, даже если такие сцены происходили только в отдельных местах и в течение ограниченного времени. Не делалось различия между статистически нормальным уровнем госпитализации и исключительными ситуациями. Каждый случай смерти преподносился как доказательство масштабной катастрофы, вне возрастной или клинической специфики.
Классические методы успокоения общества, которые применяются при стихийных бедствиях и катастрофах, в этом случае почти не использовались. Никто не пытался объяснить, что большинство заражённых выздоравливают, что тяжёлые формы – редкость, что уязвимы в основном пожилые и тяжёлобольные. Напротив, акцент делался на неизвестности, на «новом» типе угрозы, на необходимости «полного подчинения» во имя коллективной безопасности. Этот дискурс выходил далеко за пределы медицины: он формировал поведенческую модель. Страх делал человека покорным. Покорность делала возможным принятие любых решений сверху – от ограничения передвижения до принуждения к медицинским процедурам.
В условиях страха происходило то, что невозможно было бы навязать в спокойное время: отключение образования, отказ от очной медицины, разрушение частного предпринимательства, дистанционирование между людьми, разделение общества на «допущенных» и «отказников», а также внедрение цифровых инструментов контроля. Всё это сопровождалось логикой: «иначе все умрут». Страх становился не только оправданием, но и формой политической дисциплины. Он вызывался, подкреплялся, обновлялся ежедневно. Прекращение страха грозило крахом всей конструкции.
Таким образом, управление в период пандемии не строилось на рациональности или медицинской необходимости. Оно строилось на эмоциональной основе – страхе смерти, социальной изоляции и санкций за несогласие. Этот страх стал тем самым универсальным ключом, которым открывались двери к трансформации институтов, ограничению прав и перераспределению власти. Не борьба с вирусом, а управление восприятием стало центральной задачей. И именно это делает COVID-реакцию не медицинским процессом, а управляемой моделью поведения – спроектированной и подкреплённой средствами массовой психотехники.
Глава 3. Фигуранты: кто имел возможности и выгоду
Принцип оценки: мотивация + ресурсы + неприкосновенность + влияние
В любой сложной системе, где невозможно установить прямую связь между решением и выгодоприобретателем, применяются методы косвенного анализа. Такие методы особенно актуальны в контекстах, где действия распределены между множеством акторов, нет открытого командного центра, а последствия реализуются не мгновенно, а в течение месяцев и лет. Именно такой случай мы имеем с пандемией COVID-19: ни одна организация не заявляла публично о планах использовать вирус как инструмент системной трансформации, но сами события, их последовательность, масштаб и итоги указывают на чёткую логику выгод и ресурсов.
Чтобы установить, кто имел не только интерес, но и возможность влиять на ход событий, необходимо оценивать не по заявлениям и не по формальным ролям, а по четырём признакам: мотивация, ресурсы, юридическая или институциональная неприкосновенность и степень влияния. Такая система оценки не утверждает вины, но выявляет структуру – те узлы, через которые могло происходить принятие решений, планирование, управление и адаптация кризиса под определённые цели.
Мотивация – это наличие интереса в изменении существующего порядка вещей. Она может быть экономической, политической, технологической, идеологической. Речь идёт не о предполагаемых желаниях, а о зафиксированных целях, декларируемых стратегиях, публичных интересах, которые могли быть реализованы через кризис. Мотивация не является доказательством участия, но она необходима для появления замысла.
Ресурсы – это материальная, институциональная и техническая база, позволяющая реализовать замысел. Это финансирование, инфраструктура, кадры, доступ к принятию решений, способность влиять на технологии, логистику, информационные потоки. Без ресурсов мотивация остаётся намерением. Только наличие конкретных инструментов делает участие возможным.
Неприкосновенность – это защитный контур, в рамках которого актор может действовать без страха ответственности. Это может быть юридическая иммунитетность, как у международных организаций; политическая неприкосновенность, как у влиятельных фондов; или структурная анонимность, как у глобальных партнёрств. Этот параметр особенно важен: в любой операции действовать может только тот, кто защищён от последствий.
Влияние – это возможность транслировать волю на другие структуры: государственные, корпоративные, медийные, экспертные. Влияние может быть прямым – через контроль над финансами или кадрами, или косвенным – через формирование повестки, стандартизацию норм, участие в разработке рекомендаций. Без влияния даже имеющий ресурсы актор не может масштабировать свои действия.

