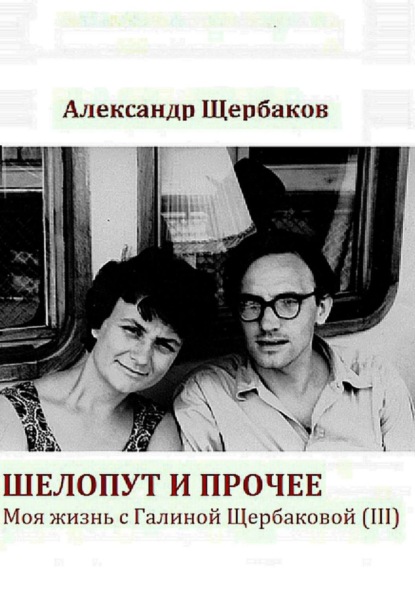 Полная версия
Полная версияШелопут и прочее
– Знаете что, никакой вы не ответственный секретарь. Вам тяжко с этими бандитами, которых я напринимал. Вы типичный зам. главного. Найдите ответсекретаря, и в тот же день я назначу вас замом.
Через три дня я перетащил из «Московских новостей» на свое место Владислава Перфильева. А через четыре стал замом. Очевидно, у Коротича были какие-то еще свои интересы и резоны в этой перестановке. Я про них не знал да и узнавать не хотел.
«Огонек» в то время был ближе всех к идее независимости от власти – не только творческой, интеллектуальной, но организационной. Мне было поручено заняться проблемой практически. Я воспользовался деловыми связями «Журналиста» и привел в редакцию команду блестящих юристов, собранную Михаилом Федотовым, в которую, кроме него, входили Левон Григорян, Николай Исаков, Инэсса Денисова, Ольга Гюрджан. В течение нескольких месяцев мы собирались по средам и разрабатывали первый в стране устав независимого от властей средства массовой информации. Он, как и бывает у первопроходцев, получился громоздким – на нескольких десятках страниц (как первые отечественные ЭВМ – многоэтажные сооружения).
Параллельно мы затеяли большую тяжбу с отделом пропаганды и отделом издательств ЦК КПСС. Угрожая им гневом миллионов читателей (при этом нисколько не блефуя), мы требовали отпустить нас «на волю, в пампасы». К тому времени благодаря смелости, дипломатическим способностям Виталия Коротича, а главным образом его хорошим отношениям с Горбачевым и, особенно, с «архитектором перестройки» А. Н. Яковлевым, «Огонек» мог печатать практически все. Так что я вел «брдзолу» в первую очередь вокруг стоимости подписки (которую мы хотели снизить) и распоряжения деньгами от нее, которые были большими и, естественно, уходили в бюджет КПСС. Я потерял счет совещаниям на Старой (ЦК КПСС) и на Страстной (Госкомиздат) площадях, где представлял редакцию. Там самое главное было – тупо, по-большевистски, как Молотов или Вышинский в ООН, стоять на своем, не поддаваться никаким речам и посулам.
Когда была одержана виктория, я триумфально явился в нашу контору со свидетельством о регистрации, где учредителем журнала был назван «трудовой коллектив редакции», а среди программных целей и задач было записано, что журнал «является независимым от политических партий, массовых движений, иных общественных объединений, частных лиц и организаций, придерживается принципа плюрализма мнений, отстаивает собственную точку зрения по обсуждаемым проблемам». И это – при советской власти?! Весть разнеслась по одной шестой части суши. Пошли телеграммы.
«Горячо поздравляем славный коллектив Бумажного проезда исторической победой над Старой площадью победой нового над старым браво народный Огонек» (Харьков). «Туже стянем ремешок но подпишем Огонек» (Саратов). «Рады поздравляем ваша победа победа читателей» (Нарва Эстонской). «Дорогой Огонек поддерживаем свой журнал выбирай иностранное издательство так свободнее удачи тебе жестокой борьбе за перестройку» (Владивосток).
Как любил повторять тогдашний огоньковец, а впоследствии и один из главных редакторов журнала Володя Чернов, редакция была создана как отряд коммандос с задачей взорвать абсолютно неприступный мост. Получив дополнительные ресурсы, отряд, казалось бы, должен был усилиться и окрепнуть. Но неисповедимы пути Господни…
Бесспорно, Коротич с лихвой наделен и здравым смыслом, и чисто «хохляцкой» лукавостью. Но в своем редакторстве, как мне казалось, с удовольствием отдавался и свойственной ему стихии импровизации, азарта. Он же стихотворец. Убежден, редакторский талант Коротича неразрывен с природой его поэтической натуры. С тесной взаимосвязью мозговых структур левого и правого полушарий. Результатом такой игры природы и явился «новый» «Огонек» как уникальное, цельное (при, казалось бы, разбегающемся разнообразии) публицистически-информационное и художественное издание. Мне кажется точным сравнение, которое дал ему Владимир Глотов: «журнал Коротича, чей век был короток, как выстрел». В то же время я разделяю его же мысль, что это было издание, которое, «чем больше проходит лет, тем яснее воспринимается как национальное достояние, легкомысленно нами утраченное».
Удивляюсь, что до сих пор никто из исследователей, теоретиков СМИ не занялся этой темой. Какая бы могла быть интересная работа! Вероятно, она по сию пору не случилась из-за слишком яркой политической грани феномена, перекрывающей его профессиональную сторону. Но не только содержание статей, а еще и (как бы это сформулировать?) живые, подвижные, пульсирующие формы подачи обеспечили мгновенный взлет нового старого журнала. Была спонтанно – так мне кажется – найдена своя, «на раз» (то есть только для этого издания и на короткое время), журнальная эстетика. Она нахально игнорировала новомодные дизайнерские поветрия, в том числе и «сеточную» верстку, полагаясь на собственную «палату мер и весов». В ней многое было от старозаветной «художественности», но зато она была чужда размеренности и аккуратности модульного конструирования, в то время начинавшего свое победное шествие по российской периодике. Журнал держался всецело на индивидуальном вкусе и интуиции его оформителей. И… главного редактора. Не будь Коротича, его вдохновленности – не было бы и «Огонька». Именно такого, коротического «Огонька».
…Да, действительно, мы не могли назвать его ни лентяем, ни трусом. Многие наверное забыли, как он на XIX партконференции в полной тишине обмершего зала вручил генсеку пакет с фамилиями четырех взяточников-делегатов. «Казалось, что и многие члены тогдашнего президиума тянутся, чтобы заглянуть через плечо Горбачева: не их ли судьба в этом конверте?» – писал потом Анатолий Собчак.
История началась с шумного расследования уголов-ного «хлопкового дела», нити которого тянулись в Москву. Прокуроры посвятили в его хитросплетения Коротича. «Я плюнул и всё это дело напечатал, – рассказывал он в одном интервью. – Началась XIX партконференция, и с первых же дней: "Компрометация!.." То есть они решили, тогда действительно был великий шанс, свести со мной счёты. …Я понял, что долго говорить мне не дадут… Мне надо было что-то сказать за минуты полторы.
<…> Всё гудит, и я выхожу к трибуне. Вы знаете, тогда я ощутил… я всегда ощущаю хорошее или плохое расположение аудитории. Из зала пёрла ненависть. Как ветер. Я это ощутил и сказал: "Значит так, или надо, если мы проводим следствие, чтобы можно было допрашивать всех, или никого. Или есть закон или нет!" И зал начал гудеть. Я понял, хорошо, я заканчиваю. Я повернулся к Михаилу Сергеевичу и говорю: "Михаил Сергеевич, вот четыре дела. Вам, лично, даю. Разберитесь! Это большой секрет!"…Вдруг смотрю, Горбачёв такой белый, смотрит на меня и говорит одно слово: "Давай! Давай-давай! Давай!" Я их ему отдал…»
Эту сцену увидела по телевидению вся страна. Преодоление естественного страха перед прущим на тебя государственным чудищем и есть смелость. Но еще и… заядлость, страстность, воплощавшаяся едва ли не в каждом номере журнала.
Вот картинка из того прошлого. Коротич идет от лифта к своему кабинету. Любезно со всеми здоровается. Вдруг, едва миновав меня, останавливается и, как бы случайно вспомнив, достает из внутреннего пиджачного кармана сложенные вчетверо странички.
– Поставьте куда-нибудь, – и так небрежно, с хитрецой добавляет. – Веселые ребятки написали – Аушев и Руцкой. Все-таки афганские герои…
И пошел дальше. Как правило, вот так, «невзначай» приносимое им было, как говорится, из категории гвоздевых материалов.
Бывали и иные мизансцены. Приходит главный редактор с какой-то статьей, присаживается на край гостевого кресла и вкрадчиво так говорит:
– Вот. Надо в номер.
– Побойтесь Бога, Виталий Алексеевич. Завтра же подписываем в печать.
– А вы сейчас и зашлите.
– Да уже, наверно, печатную машину приправляют.
– Я вас очень, Александр Сергеевич, прошу. Ну, ради меня…
С этого момента кончается спор и начинается игра в благоверного просителя (Коротич) и правоверного чинушу.
– Чтобы типография не выставила штраф, мне опять придется идти к заместителю директора издательства…
– Поверьте, это в самый последний раз. Вы же благородный человек…
Просто воспользоваться диктаторским правом Главного – а оно в правилах и практике редакций имеется – ему казалось, наверное, неинтересным, безвкусным и неталантливым.
Обычно такие случаи бывали, когда ставились материалы слишком острые или «скоропортящиеся», рискующие потерять актуальность к следующей неделе. Коротич знал взрывную силу этих публикаций.
Однажды Гущин, прочитав перед засылом в типографию одну из этих статей и, очевидно, ахнув от ее дерзости, не в силах сдержать овладевшую им эмоцию шел по коридору и, не обращая внимания на окружающих, вскидывал руки и повторял:
– Ну, главный!.. Ну, главный!!
И при этом потрясенно мотал головой.
Но прав Лев Никитич: редакция, особенно большая и многосложная, как в «Огоньке» (одних разных производственно-типографских графиков три или четыре – для текстов, для однотонных и цветных картинок, для обложки), это «молотилка». Или, если хотите, «мясорубка». Ее надо уметь крутить. Иначе при всей талантливости и вдохновленности команды ничего путного не выйдет. Уж я-то, проведший к тому времени двадцать лет в секретариатах газеты и журнала, знал это как никто.
С «бандитами, которых напринимал» Коротич, в большинстве талантливыми, надо было управляться в долговременных интересах всего издания. В многочисленных отделах необходимо было соблюдать творческий и соревновательный дух. И чтобы при этом не очень пили. Короче, по всем жизненным показателям нужно поддерживать постоянный рабочий тонус. Я могу на многих страницах перечислять условия, без соблюдения которых «мясорубка» не сможет выдавать надобный «фарш».
Виталий Коротич ни по своим природным наклонностям, ни по опыту деятельности – хоть и киевской, но все же в чем-то провинциальной – не обладал качествами для такой работы. Ею занимался Гущин.
На память пришло расхожее. «Русский размах и американская деловитость» – так, помнится, определял стиль работы Ленина товарищ Сталин. Из-за этого сравнения на меня могут обидеться и Виталий Алексеевич, и Лев Никитич. В оправдание могу сказать одно: я сам терпеть не могу ни «замечательного грузина», ни «всемирного вождя пролетариата». Но больно уж хороша формула сочетания русского (впрочем, в нашем случае скорее украинского?) размаха и деловитости самого работящего в мире народа.
Так вот, не будь Гущина, его невероятной работоспособности – «Огонька», по моему убеждению, тоже не было бы. Можно красиво сказать – так встали звезды. Но будет неправда. То был выбор Коротича или, опять же, его интуиции. Волею случая, через человека, знакомого и со мной, и с Коротичем, я знал, кто еще мог быть реальным претендентом на должность первого зама. Считаю то решение Коротича и правильным, и счастливым. Тандем получился. И что с того, если сами его участники не признают этого? Истина дороже.
Вернусь к пресловутому «зимнему конфликту». Его источником была та самая «американская деловитость», буквально выпиравшая из первого зама. Конфликт был тошен всем. Как было бы хорошо, испарись он волшебным образом из нашей жизни.
Но он наличествовал. И порождал неразрешимую дилемму. Посмотреть сквозь пальцы на открывшиеся неприглядные факты? Это чревато гангреной морального духа «огоньковцев». Желать разрушения «тандема»? Для журнала это равносильно эвтаназии.
В отличие от эмоциональных всплесков многих сослуживцев я с холодным носом переживал какую-то горестную безысходность. Как будто в кои-то веки угадал в лотерее пять номеров из шести, а когда уже шел в сберкассу, порыв ветра вырвал из рук выигрышный билет. При всей моей личной симпатии к борцам за чистоту отношений в коллективе – моральную, материальную и прочую – я не был в состоянии испытывать, как они, кипучую, святую, если не сказать священную как у Павлика Морозова, враждебность к отступникам от праведности. Мне представлялось – безо всяких мотивов, – что есть что-то важнее. Вероятно, меня можно было бы отнести к тем равнодушным, «с молчаливого согласия которых…» и т. д. Но это было бы очень неточным. Просто я чуть ли не физически ощущал, что раскалывается плаха, до того дня бывшая «Огоньком», – тот самый «тандем». А тут уж у каждого – своя собственная шкала: что чего стоит.
…Не дает мне покоя звонок, впрочем, два телефонных звонка, случившихся на рубеже 2006 и 2007 годов. Один из упомянутых в воспоминаниях Коротича сотрудников, пришедших с заявлениями об уходе, попросил у меня координаты Гущина. И сказал, что совсем недавно узнал: человек, который тогда подговорил его выступить против зама главного, был «засланным казачком» соответствующего отдела КГБ с заданием по разложению коллектива редакции. Потом он позвонил еще раз и доложил, что поговорил со Львом Никитичем и повинился в своих былых не слишком справедливых поступках.
…Однако в 1990 году у меня были очень, можно сказать, захватывающие отвлечения от той удручительной истории. Первое – уже рассказанная «бракоразводная» эпопея с ЦК КПСС и все, что было связано с регистрацией редакции как учредителя. А вторая…
IV
Ранней весной мне позвонил некто Григорий Аронович.
– Скажите, – спросил он, – вас не задевает, что в нашей стране иностранцы открывают одну за другой радиостанции – «Европа плюс», «Ностальжи»? Неужели мы сами не в состоянии создать хоть одну свою новую радиостанцию?
– Ну, вот и напишите об этом, а мы напечатаем, – нетерпеливо ответил я, потому что спешил куда-то «бодаться» с супостатом – то ли в отдел издательств ЦК КПСС, то ли в Госкомиздат, сейчас уже не помню.
– Нет, я не об этом, – настаивал Григорий Аронович Клигер. – Почему бы вам, «Огоньку», вместе с нами не сделать новую станцию?
– С нами – это с кем?
– С «Ассоциацией Радио».
Надо сказать, что я с раннего детства был большим, как сейчас бы сказали, фанатом радиослушания, а в начале шестидесятых даже поработал полтора года корреспондентом и зав. отделом областного радио и телевидения в Ростове-на-Дону.
– Ну, тогда приходите, поговорим, – сказал я, зная, что большинство звонящих энтузиастов-прожектеров на встречи не являются.
Клигер пришел и рассказал удивительное. Решение о выделении частоты кому-либо для вещания принимали Гостелерадио и Министерство связи, а чисто технически обеспечивала возможность использования этой частоты «Ассоциация Радио». Начальник этой ассоциации В. Г. Буряк и его заместитель Г. А. Клигер видели, как ловко обрабатывали советских начальников ушлые иностранцы и овладевали пространствами отечественного эфира. Но…
– Мы припрятали одну частоту, – говорил мне Григорий Аронович, – если быстро создать «контент» и выпустить его в эфир, отобрать ее обратно уже не смогут. Но времени в обрез, слишком много заинтересованных с деньгами, и скоро до этой частоты могут докопаться…
Завязывалась история вполне в духе тогдашнего «Огонька». Я тут же отправился к Гущину. Он не думал и минуты:
– Конечно, делаем.
Кто бы тогда знал, что в эту минуту решалась судьба будущей прославленной радиостанции «Эхо Москвы»? Клигер рассказал мне позднее, что до нас они побывали уже и в «Московских новостях», и в «Аргументах и фактах» – все отказались. Чуть ли не посмеялись над ними, лопухами: дескать, кто это начинает что-либо создавать с такой вот беготни, а не с решения ЦК КПСС? Даже спустя много лет воспоминания Григория Ароновича об этом общении не были окрашены и тенью симпатии к несостоявшимся контрагентам.
Вообще-то их не трудно понять: авантюра в чистом виде. Крайне редки примеры, когда кому-то из соотечественников при советской власти, даже в перестройку, удавалось по своей инициативе своими руками создать что-нибудь реально работающее. Я вспоминаю только «Коммерсантъ» Владимира Яковлева.
Буряк и Клигер мудро решили, что в эту затею надо вплести какое-никакое столичное начальство. Позвали в учредители Московский городской совет народных депутатов. Гущин, используя авторитет «Огонька» и свои обширные московские связи, организовывал нужные встречи, а мы мотались по конторам, собирая подписи, ходатайства, печати и прочее. Помню, как во время заседания пробирались на галерку Дома политпросвета на Трубной площади, где заседал Моссовет, и что-то нашептывали нужному депутату, побуждая его подписать очередное ходатайство прямо на поручне кресла. И таки подписал!
Еще друзья из «Ассоциации Радио» вовлекли в соратники факультет журналистики МГУ. Думаю, в первую очередь из-за глубокого уважения к знанию вообще – как-никак сами кандидаты наук, академики неких отраслевых святилищ. И это пошло на пользу делу. Декан Я. Н. Засурский привлек в качестве разработчика зав. кафедрой телевидения и радио Г. В. Кузнецова, тот подключил своих спецов, от технарей еще приходил М. Г. Розенблат, ставший впоследствии первым директором радиостанции, и, по опробованному уже в «Огоньке» принципу мозговых штурмов, вся компания раз в неделю стала собираться в живописном кабинете Ясена Николаевича, где, чтобы сесть на стул, надо переложить с него на стол (или диван, тумбочку, телевизор) пачку книг, журналов или подшивок.
Едва ли не каждый писал свою концепцию нового радио. Ученые мужи – на серьезной теоретической основе и многих листах. Я – на полутора страницах под названием «Каждый имеет право быть услышанным». О мобильниках тогда у нас знали по научной фантастике, поэтому я развивал идею ведения уличных репортажей из будок телефонов-автоматов, а также возможности оперативного вызова репортера (как 03, например) на место события. Когда я ныне слышу, как простодушный гориллоид в прямом эфире говорит главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову: «Вы куплены госдепом и международным сионизмом», меня охватывает зло и одновременно – чувство законного удовлетворения. Я улыбаюсь: «Каждый имеет право быть услышанным». (Много ли мы вспомним прямоэфирных программ, где предварительно не просеивают звонки?) Хотя, конечно, понимаю и грустное венедиктовское сетование: «Меня очень расстраивает несправедливость слушателей в отношении к радио и очень радует их справедливость. Хотелось бы больше справедливости». Не дождетесь, Алексей Алексеевич! Нету у нас для вас другого народа.
…Строить гениальные планы – что может быть приятнее? Но радиостанция… Что это такое? Как ее пощупать? Или хотя бы представить? «Ассоциация Радио» объясняла: о передаче сигнала они договорятся с кем надо, а что касается оборудования… В их хозяйстве есть некая старая аппаратура, которую если подремонтировать и почистить…
– А где все это будет помещаться?
– У нас и будет. Приходите, посмотрите.
Прийти и посмотреть было поручено мне. Сначала хозяева показали разные продвинутые технические ухищрения связи. Потом в одном из помещений, как в детективном фильме, сняли с пола квадратную деревянную плиту, и в обнаружившемся тайнике открылась святая святых – какое-то совершенно непотребное змеиное переплетение разноцветных кабелей, проводов и проводочков.
– Здесь скоммутировано, – сказали мне…
Нет, я и сегодня не решусь раскрыть то, что тогда было произнесено. Точнее, именно сегодня и не решусь.
Потом меня привели на обширную лестничную площадку.
– Вот, – было сказано, – видите, какое замечательное место для студии.
– Где? – озирался я.
– Вот тут будут стоять магнитофоны, тут пульт, тут – основные микрофоны…
– На лестнице?
– Ну, почему же. Выгородим.
…Не знаю, существуют ли фотографии первой редакции-студии «Эха Москвы». Это было впечатляющее зрелище. В плохопроглядываемой из-за табачного дыма комнате возле каждого стола минимум два стула, почти все заняты, мало того, молодые люди разного пола (и одинакового тоже) сидят на коленях друг у друга (это надо понимать буквально), и все чего-то работают – с магнитофонами, с ручками, просто глядя в потолок – в творческом поиске…
С матчастью, похоже, все устаканивалось. Осталось найти желающих взять ее на вооружение. И тут снова инициатива оказалась за «Ассоциацией Радио». Владимир Гурьевич Буряк рассказал, как недавно они с Клигером ехали в машине к заместителю председателя Гостелерадио (сейчас точно не помню, к которому из них) и включили приемник на волне советского иновещания. И услышали проникновенный, абсолютно французский, обворожительный мужской голос. «Густой, с обертонами, – описывал Владимир Гурьевич. – Не знаю, про что он говорил, но поверил ему безусловно». Обговорив с зампредом свои технические проблемы, гости спросили: а кто это у вас только что вещал по-французски таким красивым голосом?
– А, – сказал зампред. – Если красивым, то это Сережа Корзун.
– А какой он журналист? – уходя, между прочим спросили хитроумные радисты.
– Нормальный! – ответил простодушный собеседник.
«Его надо брать главным редактором! – убежденно говорил Владимир Гурьевич. – Другого такого голоса мы не найдем».
На следующий день ко мне в «Огонек» пришел высокий молодой человек с несколько напряженным взглядом.
– Сергей Корзун, – представился он.
Голос и впрямь был приятный, облик – тоже.
О дальнейшем исторические хроники сообщают так:
Май 1990 г. Встреча на факультете журналистики МГУ с участием декана Я. Засурского, зав. кафедрой Г. Кузнецова, руководителей «Ассоциации Радио» В. Буряка, Г. Клигера, М. Розенблата, ответственного секретаря журнала «Огонек» А. Щербакова и С. Корзуна, которому предложено возглавить редакцию. Май-июнь 1990 г. Рабочие совещания в курилке дикторов Иновещания Гостелерадио СССР С. Корзуна и С. Бунтмана – разработка концепции принципиально новой для СССР разговорной радиостанции, построенной на принципах свободной журналистики, полного отсутствия пропаганды и «промывания мозгов».
Косвенным подтверждением того, что так – в смысле симпозиумов в курилке – оно и было, могли послужить дальнейшие события.
«Ассоциация Радио» капала нам на нервы каждый день.
– Завтра надо выходить в эфир! – требовала она.
– Как?! – поражался, в частности, я. – Мы же еще не зарегистрированы – ни как средство массовой информации, ни как юрлицо (сидение за одним столом с Мих. Федотовым не прошло даром).
– Не важно, – внушала Ассоциация. – Когда заберут частоту, уже не надо будет ничего регистрировать!
– Сергей Львович! – звонили мы Корзуну. – Как насчет выхода?
– Хоть завтра, – бодро отвечал он. – Вот только надо дождаться джинглов. Мне их обещали прислать из Германии. Ну, и, конечно, название…
Да, название… Это с человеком просто: можно его родить, а потом придумать имя. С радиостанцией, оказывается, все наоборот. Главное, в этом вопросе мы столкнулись с конфликтом интересов. Эстетических. Точнее, звукоэстетических. Корзун, как только его в кабинете декана факультета журналистики назначили главным редактором, буквально через минуту сообщил, что станция будет называться «Радио-М».
– Это почему?
– Не знаю, но я так слышу. «Радио-М!» – и больше никак.
– Да ну, ерунда, – махнул рукой Владимир Гурьевич Буряк, – название давно есть: «Радио-СТ» (звучание: эстэ). Если точнее, то латинскими буквами: «Радио-ST».
– Почему «ST»?
– Потому что это хорошо и правильно.
На другой день Владимир Гурьевич без предупреждения приехал ко мне в редакцию. Оказывается, для того, чтобы все же привести убедительные аргументы в пользу «ST».
– У нас есть такая техника, – сказал он, – ревербератор называется, он дает замечательный эффект. Я прямо слышу, как диктор объявляет: «Говорит радио ST!» И эхо, затихая, долго повторяет: «Эстэ… эстэ… эстэ». Потрясающе! К тому же у нас в учредителях Моссовет, а СТ можно расшифровывать как «Радио Столица»…
…И пришел день, когда уже не было времени на отступление и от наличия названия стало зависеть: быть или не быть? И весь тот день я, забросив работу за зарплату, фантазировал на темы «ST» и «М»: «СТолица», «СТалкер», «СТудио», «Метрополис», «Мозаика», «Монитор», «Монтекристо» и т. п. Бумажку, на которой записана куча тех вариантов, мне удалось обнаружить в своем, казалось бы, безнадежно безалаберном архиве. Скажу честно, подавляющее их число не на «ST», а на «М». Опыт жизни однозначен: с того дня, как появляется главный редактор, и по день, в который его снимут с поста, он – главная фигура.
Так и не изобретя ничего путного, с распухшей головой я поехал в метро по рутинным домашним делам. Но, видно, от слов Буряка засело в подсознании: эхо, эхо, эхо… Проезжая над Москвой-рекой между «Спортивной» и «Университетом» («Воробьевы горы» тогда не функционировали), я неожиданно сделал открытие: «СТ» – это не две буквы, а три или даже четыре звука (э; с; т; э). Поэтому их можно расшифровать, скажем, так: СтЭ – Столичное эхо. Или: ЭСт – Эхо столицы. А «М»… – это «ЭМ». То есть… «Эхо Москвы»!
Вышел из метро, записал слова на бумажку и из автомата позвонил домой Корзуну:

