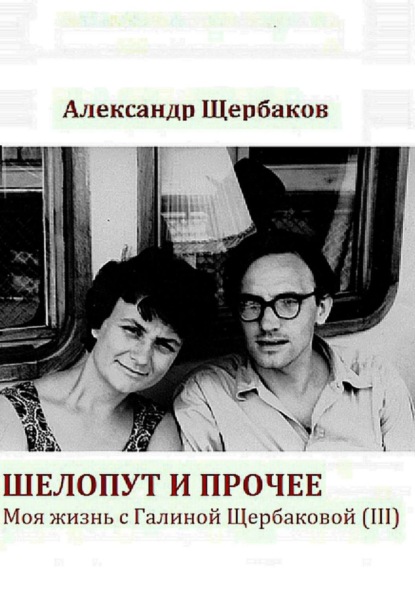 Полная версия
Полная версияШелопут и прочее
Шли годы (как нередко пишут в киносценариях вслед за ремаркой «ЗТМ», что означает – затемнение). В очередной свой приезд любопытствующая Глушковская взяла для вечернего, перед сном, чтения принтерную копию детектива под заманчивым названием «Déjà vu». А на другой день, за завтраком, завела речь о том, с каким бы удовольствием поместила эту «повесть-триллер» в своем журнале. Мы с Галей переглянулись удивленно, но и (как это – в названии иконы?) с нечаянной радостью.
Это было сочинение нашего Сашки. Он, уехав из СССР кандидатом медицины и проработав более 15 лет в одной из крупнейших клиник Израиля, не избежал традиционного для многих российских врачей соблазна литературного сочинительства. В том, что он присылал нам, уже угадывалась умелая рука, но мы не были уверены, годятся ли его детища для публичного представления. И вот нежданное-негаданное профессиональное признание человека, вкусу которого мы доверяли.
Повесть напечатали, она, как нам доложили, имела читательский успех, и когда Сашка прислал очередной большой «триллер» под названием «Библиотека», мы его сразу переправили куда подальше – в Таллин.
Вот я и вернулся, а точнее, снова подошел к Сашкиному е-мэйловскому письму об Эстонии и «Библиотеке», которая не «Война и мир». С него начинается эта, третья, подглавка, которую я решил изначально отдать под нашу с ним, так сказать, «литературную» переписку. Но не предполагал, что подходы к ней окажутся столь будоражащими память. И потому изрядно затянувшимися.
Вот мой ответ на то Сашкино письмо: «Из «Вышгорода» звонили. Твой опус им понравился. Но, считают, требует редактуры, и этим сейчас занимаются. Хотят поставить в ближайший номер. Но тут нужно набраться терпения. Они выходят раз в два месяца, а к тому же у них случаются сдвоенные номера».
IV
«Только что прочитал твой рассказ. Главное впечатление – интересно. Интересно рассказанная история. Что препятствует, на мой вкус, полному удовлетворению? Прежде всего то, что речь героини часто замещается речью автора. (Это, надо полагать, нелегко – все сделать исключительно на речевой характеристике одного персонажа). В результате нет отчетливости ее лица. Она весьма развитая или не очень? Мне бы хотелось, чтобы не очень… Сейчас она очень быстро приходит к конечному в жизни выводу, который, увы, угадывает читатель – весьма развитый – до того, как она формулирует его. А вот если бы она чего-нибудь извилисто подумала… Пусть даже какую-то глупость… Или не глупость… Короче, хотелось бы уйти от модели басни: вот история – и вот мораль. Но, в общем, я в этом не уверен. Но вот в том, что речь надо более индивидуализировать, чтобы от нее исходило не только изложение истории, но и еще чего-то… Вот это мне кажется нужным».
«Батюшка!
Ты зря мне начал объяснять, что художественный образ сына Ма и я это не одно и то же. (Речь о повести Галины «Эдда кота Мурзавецкого». – А. Щ.) Я это и так понимаю. Но вряд ли ты будешь спорить, что за мамиными образами «Эдды», не вообще в ее литературе, а в частности, стоят конкретные люди. Но, поверь, я не настолько идиот, чтобы из-за нелицеприятного изображения меня таким, как я выгляжу со стороны, могу хоть на йоту изменить любовное отношение к маме или тебе. Более того, я считаю, имея в виду самого себя, что человеку правильно время от времени давать понять, каков он на самом деле, когда не почивает на лаврах собственного самодовольства. При этом, однако, я, как и ты, могу только посетовать на то, что то, какими мы видимся и какие есть, не просто не одно и то же, а две большие разницы. И в хорошем, а чаще в плохом смысле этого слова.
Если же вообще взять манеру маминого письма (надеюсь, ты не возмутишься до глубины души), то, с моей точки зрения, на нее оказало сильное влияние ее украинско-южнорусские детство и молодость. А ты знаешь, как красиво и забавно в запале общаются там солохи. Так что, когда мама раньше устно или письменно начинала чересчур образно, мягко говоря, передавать свое отношение к какому-нибудь человеку или явлению, я, принимая во внимание конкретный смысл сказанного, в остальном просто находил в ее речи развлечение. Не многие умеют так живо говорить и писать».
«Абсолютно верно! Когда-то у нас был трехтомник произведений украинских писателей. Однажды загля-нув туда, я незаметно его прочитал. Там та-акие страсти! Что твой Шакеспеар! И я твою мамочку всю жизнь дразнил ее хохляцким менталитетом: «Ой, дывытесь, люди добрые, що зробляется!» И это, я согласен, составляет и часть ее писательского менталитета. Это же придает определенную окраску многим ее сочинениям».
«Батюшка!
Я тут накропал новый рассказик. У него есть ноги, но он не автобиографический. Будет минутка, почитай».
«Насчет «Стервятников». Мое читательское мнение: слишком долго. Затянуто. Как с этим быть – это уж ваше, писательское дело. Опять же, на мой взгляд, прямо, линейно идет изложение. К примеру, история с Алексеем. Сразу и она рассказывается, и раскрывается злодей, ее подстроивший – причем как раз тогда, когда в ней возникла необходимость именно по сюжету. Такое ощущение, что автор не хочет «заигрывать» с читателем. Но мне кажется, что это нужно бы делать. Но, повторю, это – ваше, авторское».
«Ценю твое мнение, хотя не совсем понял, советуешь ли ты рассказ сократить, позаигрывать с читателем или и то, и другое вместе. Не иронизирую. Но все-таки задам вопрос: ты и с мамой в оценках был так же прямолинеен и несколько безапелляционен? Спрашиваю не из ехидства, а из желания понять, стоит ли мне вообще ломать копья. Кстати, у меня есть скайп, но, честно говоря, не знаю, как к нему подступиться».
«Саша, я, наконец, отделался от очередной работы – сдал в издательство предисловие к Галиному сборнику "Приговоренные к любви. Книга романов о женщинах". Главное – надо было перечитать сами романы, среди которых я, к моему удивлению (почему удивлению – узнаешь немного позднее), один вообще не читал. А вопрос ты, сам того не зная, задал – для меня – существенный: как Галя относилась к моим оценкам своих сочинений? Тут ведь можно было ответить очень коротко и абсолютно честно: профессия литератора публична (и ты это уже хорошо знаешь), и говорить автору свое мнение не прямолинейно и не безапелляционно можно только, если тебе на самом деле на него, автора, глубоко наплевать (ну, или сознательно хочешь подвести его под монастырь). Вот и все. Можно чуть расширить мысль. На самом деле, не так уж мало есть людей с хорошими литературными задатками (ну, конечно, и не так уж много). И они много чего симпатичного сочиняют. Но почему-то из большинства из них не получаются настоящие писатели – хотя бы пусть не высокого уровня, но все же писатели. Между теми и другими проходит «маленькая» грань: одни способны из своей «глины» сделать вещицу словесного искусства (опять же оно может быть самого разного качества), другие – нет, или вообще не разумеют, что это такое: сложился рассказ от начала до конца – вот и славно. Это, так сказать, в самом общем виде. Мои придирки к текстам – из благого желания побудить сделать именно такие «вещицы» (естественно, в силу моего разумения; я могу быть и неправ).
Галина Николаевна относилась к моим замечаниям – даже не знаю, как сказать… В общем, ни одного не оставляла без внимания. Если ей казалось спорным мое суждение, то она быстренько переделывала какое-то место: как говорится, ни вашим, ни нашим. Но наши с ней отношения в этой теме – особая статья. В этом для меня и заковыка твоего вопроса, который ты мне задал.
Галя для меня в любом случае была лучшим человеком, которого я встретил в жизни: будь она учительницей, артисткой или еще каким деятелем. Но, как сказали бы верующие люди, провидение провело ее по писательскому пути. Но каким-то образом оно немного подмешало в свое варево и меня. Выражаясь сегодняшним языком, писатель Галина Щербакова – это в какой-то невеликой доле и мой «проект».
Я увидел в ней писателя, когда она не написала еще ни строки художественного текста. Совсем недавно я обнаружил в ее сумочке, где она хранила всякие жизненные документы, мой шуточный подарок – записную книжечку с моим дарственным пожеланием «Да будет она первой зап. книжкой великой писательницы нашего и будущего времен». И дата: 15 августа 1959 года.
В 1967 году, когда она была редактором газеты, я ее уговорил взять отпуск и сесть за стол. Она тогда написала роман «Кто из вас генерал, девочки?» и рассказ «Кузя-Кирюша» (который впоследствии затерялся).
А в 1970-м я однажды ей сказал: «Все, с завтрашнего дня в свою паршивую редакцию ты больше не ходишь. Занимайся порядочным делом».
Нетрудно понять, что в результате все ее творческие неудачи, радости и прочие перипетии стали и моими. Именно это, а не что-нибудь другое было нашим сокровенным интимом. Об этом можно было бы рассказывать много интересного. Но в данном случае речь о том, как она (с какого-то времени – безусловно мастер) относилась к моим «прямолинейным и безапелляционным» суждениям.
У нас ведь с тобой нет той системы отношений, какие были с твоей мамой. Так что и сравнения тут будут некорректны. Не раз Галя на меня обижалась и даже сердилась, когда я говорил: все у тебя прекрасно получилось. «Ага, – говорила она, – ты так говоришь, потому что меня жалеешь. В издательстве мне тоже ничего не скажут. И в результате я опозорюсь». Нелегко мне было отбиваться от таких обвинений в моем «равнодушии» к ее делам».
Батюшка! Это – не художественное произведение. Но прочти на досуге.
«Прочитал твою «Водку». Мне это интересно, и хорошо написано. Есть затянутость и повторяемость. Но это не смертельно. Можно подумать, что это дидактический прием: дескать, пусть дойдет до любого алконавта. Если у тебя не будет возражений, то сразу и поставлю в «Обыватель»».
Батюшка! Как всегда, прочти на досуге. Но постарайся не сердиться.
«Саша, прочитал твою russiю. Не понял, на какую тему ты хотел высказаться. И то, и другое… и девятое… и девятнадцатое. Мне кажется, ты сам для себя во многом разбирался и все это выложил на бумагу. Согласись, это не исследование (хотя по занудности изложения тянет на это). И не публицистика. Мне-то на тебя не за что сердиться, зато боюсь, ты будешь сердиться на меня за такой отзыв. Ну, уж, что есть то есть.
Конечно, есть любопытные тезисы. Например. «Не победа демократии привела к тому, что Штаты и Европа разбогатели. А они вначале стали богатыми странами, а затем в них из зачатков постепенно, а не сразу сложились условия для современной демократии, а не ее восточноевропейского или азиатского (исключая Японию) варианта. И в России настоящая, а не бумажная демократия тоже когда-нибудь восторжествует, но для этого ей надо стать богатой. Но только нельзя мерить богатство страны территориями или природными ископаемыми».
Или: «вместо того чтобы продолжать лелеять доставшуюся от самодержавия в наследство идею величия и исторической исключительности собственного государства, нужно было оглянуться на соседей и вспомнить о том, что, кроме балета, водки, космоса, автомата Калашникова и угрозы атомный войны, оно миру, не считая немногочисленных поклонников русской культуры, ничем другим неизвестно и вообще-то находится на периферии восточных и западных цивилизаций. И вовсе не ему мир стремится поклониться. Нет у России ни исторических, ни культурных предпосылок считать себя настоящим или будущим центром цивилизаций». По мне бы – развернуть такой тезис в не очень большую, но яркую, остроумную статейку – и было бы интересно.
Еще раз: не сердись!»
«Батюшка! Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Ты, вероятно, прав. Я замахнулся сразу на слишком многое и превратил все это в кашу мыслей, которые трудно переварить. Я подумаю, что можно со всем этим сделать и делать ли вообще.
Конечно, я на тебя не сержусь. Но одно меня задело. Ты мог бы назвать меня бездарностью или просто тупицей, и я бы глазом не моргнул, но обвинения в занудстве не ожидал. Хотя кто его знает…»
«Конечно, я не очень задумывался над словами, и можно было бы написать скучность, неинтересность (что, по-моему, хорошо сочетается с исследованием). Но зачем же тебя обзывать тупицей? Было бы глупо и неправда».
…И еще два письма из моего почтового ящика.
Саша! Я наконец получил нечто членораздельное от издательства о твоих сочинениях. Прилагаю письмо от них. Теперь все зависит от тебя.
Вот это письмо.
«Я прочла романы Александра Режабека, которые вы мне принесли, – понравились «Déjà vu» и «Библиотека».
Детективы-триллеры я бы предложила к изданию в одной из серий или отдельной серией. Но у меня два принципиальных вопроса: есть ли у Александра еще романы в детективном жанре или только эти два? и готов ли он – с помощью хорошего редактора – работать над текстами «Déjà vu» и «Библиотеки»? Не в стилистическом плане, а в сюжетном. Объясню: на мой взгляд, есть существенная проблема в характерах обоих героев-убийц – Вэвэ из «Библиотеки» и Родика из «Déjà vu».
Проблема эта – мотивация личности.
Понятно, что Вэвэ – личность больная, кривая, и анализировать ее по законам нормальности нельзя. Но совершенно неубедителен ее мотив убийства Колибри, – она просто не любила геев и была раздосадована, что один из них стал ее коллегой и даже другом, во время не «выйдя из шкафа».
Это малоправдоподобно. Читатель над нами посмеется. У героини должна быть в характере более весомая причина не любить людей нетрадиционной ориентации. Навскидку можно придумать хотя бы два подсюжета из прошлого, которые могут прорасти в ее настоящее: например, она сама в юности имела гомосексуальную связь, которая привела к какой-нибудь трагедии (насчет трагедии – что угодно). Или – ее муж, например, изменил ей с мужчиной, тем самым подорвав веру Вэвэ не только в мужчин, но и в людей в целом.
Вариантов может быть множество, они очень хорошо лягут в текст «Библиотеки» – но оставлять героиню такой, какая она сейчас, я убеждена, нельзя.
И что касается героя «Déjà vu»: очень хороший, убедительный прием повествования от первого лица, при котором герой легко подсаживает на себя читателя, читатель становится на его сторону (поскольку думает его мыслями и говорит его голосом), а потом оказывается, что герой-то и был главным злодеем.
Но сомнителен переход от лжи к правде – момент самораскрытия героя. Герой был очень искренен в реакциях на смерть Маши, боялся за ее жизнь, переживал, вообще вел себя как сентиментальный положительный персонаж – и именно от первого лица (при этом притворство минимально). А потом он вдруг точно так же – от первого лица – начинает переиначивать свои действия, рассказывать, как на исповеди, о том, что было на самом деле.
Непонятно. Почему вдруг? почему не в тот момент, когда Маша только-только забеременела – он решил ее убить? почему ждал 14 недель? Зачем этот «карман» с дядей и их семейными способностями говорить с волками? Эти волки и паранормальные способности героя никак потом дальше в интриге не работают, не реализованы. А материал роскошный. И если его правильно сложить, может получиться классная книга.
Вот вкратце мои соображения по текстам, – напишите мне, пожалуйста, и я тогда уже буду говорить об издании книг Александра. Они очень меня тронули, я бы хотела их вывести на рынок и донести до читателя. Такой качественной беллетристики сейчас немного, на нее будет спрос.
С уважением и симпатией,
Ю.»
«Уважаемая Юлия!
Я с признательностью и благодарностью прочитал Ваше письмо. В связи с этим, хотя и с опозданием, попытаюсь ответить. Я без сомнения готов к сотрудничеству. Но Вы знаете, авторы самолюбивы, поэтому не могу не выразить свою точку зрения по поводу Ваших замечаний. Я, честно говоря, написал два упоминаемых Вами романа довольно давно и многое уже забыл, но у меня не вызывает сомнения, что Вы правы, и гомофобию Вэвэ можно было обосновать лучше. Это я готов сделать. С Родиком сложнее. В нем я пытался показать обаятельную, но совершенно бессовестную личность. Знаете, типа тех людей, которые покупают для ребенка на лето на дачу щенка, а уезжая этого щенка бросают на произвол судьбы. Поэтому мне все действия Родика в рамках его характера кажутся логичными. Линию волков мне тоже сложно выбросить, слишком многое пришлось бы менять. На Ваш вопрос о том, есть ли у меня еще что-то написанное, отвечу так. Очень давно написал роман-сказку, точнее притчу для взрослых. В ней почти нет атрибутики сказок или фэнтази, это история войны между двумя выдуманными государствами. Кроме того, есть давнишний роман, который на первых страницах выглядит как фэнтази, но в дальнейшем становится понятно, что это версия всем известной библейской истории о Каине и Авеле. Есть наполовину написанный и брошенный роман, который можно отнести к категории триллеров. Над ним тоже можно работать. Хочу отметить одну особенность моего характера. Я с отвращением отношусь к написанному мною и не люблю поэтому перечитывать.
С глубоким уважением
Режабек».
Эта переписка не имела делового продолжения. Причина – Сашка ответил на издательское предложение почти через полтора месяца. Для завода-гиганта, вышвыривающего каждый божий день в продажу по 20–25 новых книг, это непростительно долго. Другие сюжеты, другие издательские идеи, другие более расторопные новые авторы.
В книге «Шелопут и Королева» я объяснял образ действий Сашки как бы типовой реакцией многих одаренных людей, каких мы с Галей не раз встречали на своем жизненном пути. «Вроде бы человеку хочется быть писателем. Но как только перед ним открывается реальная дорожка к профессионализации, тут и начинается… Одному нужно срочно ехать за рубеж – там, оказывается, могут открыться горизонты пошире, у другого как раз решающая стадия многоступенчатого квартирного обмена, у третьего внук родился, надо стирать пеленки (еще в допамперсную эпоху)… Я искренне уважаю этих моих знакомых, воплощающих идею свободного бескорыстного творчества. Как правило, – писал я, – они не слишком сетуют на среду, которая «заела», поскольку втайне знают: обречь себя вечно сидеть на заднице в четырех стенах по восемь часов в день и испытывать при этом удовольствие – не их стезя».
Это абсолютно правдивое толкование феномена, очень может быть, оно имеет отношение и к нашему Сашке, но я в той книге немного слукавил, умолчав еще об одной возможной причине запоздания с ответом на письмо из Москвы. Если мне суждено завершить мою рукопись, я обязательно расскажу об этой причине, как только представится сюжетная или смысловая «зацепка» для нее.
Третья глава
I
Вот, Александр Сергеевич, почитайте. Там и комменты. Крайне любопытно.
Екатерина Табашникова
И впрямь любопытно. В Фейсбуке образовалась мини-полемика о событиях в редакции «Огонька» 1991 года. Ее участники – мои бывшие сослуживцы.
«Георгий Елин
…Журнал выходил в субботу – живя летом на даче, влезал в последний вагон электрички, шел насквозь через весь состав, считая раскрытые «Огоньки» в руках пассажиров. Обычно на вагон приходилось 8–10 штук, что при 6-миллионном тираже было нормально. Это и радовало: для того и работали. Наш отдел литературы в полном составе ушел из «Огонька» под Новый 1991-й, на пике его популярности. Что было потом – известно: журнал «приватизировали» зубастые ребята Гущин и Валя Юмашев, которые выгнали Коротича в дни августовского путча. А мы эмигрировали к Егору Яковлеву – в его «МН», делали переводную версию «Нью-Йорк таймс» и свой журнал «Русская виза»…
«Алла Боссарт
Жорка, не надо передергивать. Коротича вовсе не выгнали Юмашев с Гущиным, а на собрании «трудового коллектива», председателем которого в то время был уже не Вова (Владимир Вигилянский. – А. Щ.), а Кот (Константин – А. Щ.) Смирнов, решили выразить ему недоверие и просить уйти. Потому что во время путча он сбежал в Штаты. А Валя Юмашев как раз в эти дни вернулся из Швейцарии, что ли. Ну, правда, с Гущиным мы не сработались. Когда я пришла к нему с заявлением, он поинтересовался, естессно, куда я намылилась. И когда узнал, что в «Столицу» (где только что вышло интервью с вами троими), был прям оскорблен. «Ничего другого от вас не ждал».
«Георгий Елин
Ну, да, Аллочка, только Коротич никуда не «сбежал», а не смог вылететь из Америки, где к тому времени был уже две недели. И Котя Смирнов не решал в редакции вообще ничего, и пустое место после Вигилянского был тот новый «совет трудового коллектива»…
«Юрий Феклистов
Георгий! «Огонек» в 1990 году учредил наш трудовой коллектив (ещё до путча). Вот справка: «В 1990 году учредителем журнала, ранее принадлежавшего издательству ЦК КПСС «Правда», стал трудовой коллектив «Огонька» во главе с Владимиром Вигилянским и Виталием Коротичем. В последующие годы журнал был акционирован и неоднократно менял владельцев». …А Коротич сам 26 августа прислал факс, где просил трудовой коллектив переизбрать его. Во время путча он по «Свободе» дал интервью, где сказал, что он остаётся в Америке и возглавит «Огонек» в изгнании. Тогда все средства массовой информации Указом ГКЧП были закрыты. Остались выходить только несколько газет. Именно тогда и возникла «Общая газета», вышедшая во время путча… Именно её держит на коленях уснувший охранник Ростроповича на моём фото из Белого дома…»
«Георгий Елин
Прости, Юрочка, о какой такой «правде» ты хочешь услышать 25 лет спустя? Она очевидна – в августе 91-го зубастые Ельцин и Юмашевы победили простофиль Горбачева и Коротичей. Что за полгода до этого факта предрёк Вл. Вигилянский, написав коллективу «Огонька» т. н. открытое письмо, после чего мы от вас и ушли – делать своё дело, в том числе и «Общую газету». И все воспоминания – да, давно опубликованы. А «судиться» – себя не уважать…»
Так как это было?
«Утром, собравшись в редакции напротив Савеловского, мы в молчании проводили глазами колонну БТРов, деловито проследовавших в сторону вокзала под нашими окнами, и разъехались по городу», – так сказано в коллективном репортаже («Москва. 19 августа») наших пятерых журналистов. Они упустили одну деталь. Перед этим колонна остановилась перед журнальным корпусом издательства «Правда», и некий молодой офицер, поднявшись почему-то на четвертый этаж, стал расспрашивать, как проехать к Красной площади. И девчонки из отдела писем, не сговариваясь, указали ему прямо противоположное направление – на Дмитров.
…Было ощущение малолюдности большого здания. Но огоньковцы, так мне казалось, в большинстве прибыли в редакцию. Я мог судить об этом хотя бы по количеству людей, приходящих ко мне с одним вопросом: «Что мы должны делать?» Я всем, от членов редколлегии до стажеров и даже учетчиков писем отвечал: не сидите в редакции, слоняйтесь по городу, смотрите, слушайте, запоминайте, записывайте, фотографируйте. Чем бы все это ни закончилось, такие свидетельства когда-нибудь будут цениться на вес золота.
Почему приходили ко мне? Так сложилась ситуация. Коротич был в США, его первый заместитель Лев Гущин – в Лондоне. Просто заместитель, никого ни о чем не предупредив, появился на работе только 23 августа. Из «командного состава» на утро 19 числа остался один я, еще один зам. главного редактора.
II
Как удивительно был «спланирован» путч! Он от начала до конца уложился в технологический срок производства номера «Огонька». В предыдущую субботу вышел мирный, «предвоенный» журнал. А уже в следующую – с интервью бывшего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе: «Произошел переворот. Это национальная трагедия для всех народов Советского Союза. Это серьезная угроза всеобщему миру и спокойствию. …Если путчисты удержатся у власти, то у меня самые мрачные прогнозы. Ожидаю репрессивных мер. Прежде всего, могут быть арестованы лидеры демократических реформ. Я ко всему готов».
Предчувствия «хитрого лиса», как его прозвали в Грузии, имели серьезные основания. Уже к середине дня наши корреспонденты принесли мне несколько обнаруженных в разных местах Москвы подписанных бланков с печатями (сколько же их было, и кому, роздано!) с текстом: «РАСПОРЯЖЕНИЕ коменданта г. Москвы об административном аресте. В соответствии со ст. 9 Закона Союза Советских Социалистических Республик «О правовом режиме чрезвычайного положения» санкционирую административный арест гражданина ______ – сроком на тридцать суток. Комендант г. Москвы генерал-полковник Н. Калинин. «» августа 1991 г.» Оставалось только проставить ФИО любого «гражданина»…
В ту неделю вписались еще два или три дня, когда как будто вымерла типография и ни один телефон издательства «Правда» не отвечал. Так что факт выхода номера в срок, 24 августа, можно было считать случайной удачей. Неслучайна была смена настроения автора передовой статьи «Переворот» Анатолия Головкова прямо в течение ее написания. Технология печати была очень неповоротливой, между рукописью и сигнальным экземпляром журнала пролегала пропасть времени – не менее двух дней. И только какой-нибудь маленький абзац можно было поменять в последний момент примерно за сутки-полтора до включения ротации.

