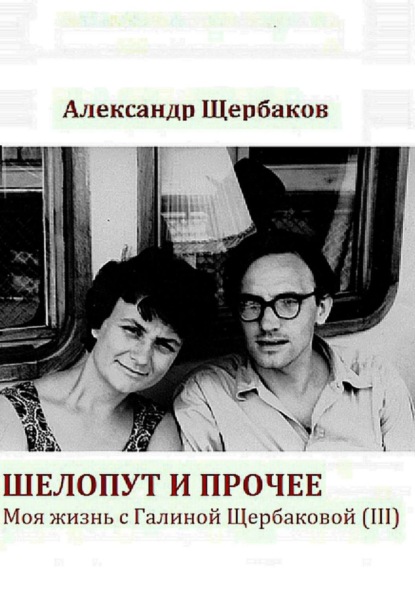 Полная версия
Полная версияШелопут и прочее
В августе 91-го Ельцин стал для большинства россиян воплощением мужества, свободы и правды. Сила его была в прямой и открытой речи, несовместимой с закулисными интригами, столь привычными для образа Горбачева.
Растерянность в рядах демократов после беловежской встречи связана с тем, что чуть ли не впервые в своей политической жизни (после разрыва с КПСС) Борис Ельцин поступил чисто по-горбачевски. Он перешел в разряд «нормальных политиков», не умеющих обойтись без тайны и обмана. Он переиграл Горбачева на его поле. Более того, после заключения договора Ельцин, Шушкевич и Кравчук сыграли и другой излюбленный Горбачевым дебют: раньше прочих поставили в известность Джорджа Буша, харизматического западного лидера, и, видимо, заручились его поддержкой. «Стыдобища», – резко отреагировал Михаил Сергеевич. И его можно понять…
Илья Мильштейн».
«Обширно Отечество наше, да зло – не нашлось землицы для Хонеккера.
Пинок под зад бывшему отцу бывшей ГДР – это присяга новым друзьям. (В марте 1991 года бывшего руководителя социалистической Германии приютили вместе с женой в Москве. А в декабре правительство РСФСР потребовало от Хонеккеров покинуть страну под угрозой экстрадиции. – А. Щ.) Как штрафник, смывший кровью грешки, Россия ожидает перевода в гвардию. Вот что такое – кровная связь.
А чегой-то мы расплатились верным корешом, зацелованным своим питомцем, кавалером советских орденов, антифашистом, а?
Быстро мне в ответ: а кто его звал?!
Но, братцы, его ж не на багажнике велосипеда везли через границу и не в банке с-под пива. И ведь не ночует он, сирота, на Казанском вокзале. Доставили, поместили, укрыли – надо думать, не последний человек в Кремле шевелил пальцами гостеприимной руки. И пусть даже помер Союз – честь не померла!
Честь требует – слово держи!
Так какого же рожна мы толкаем старика на мороз, обещав ему теплый набрюшник?
Важно в ответ: а правосудие?
Так правосудие – это не слепая доярка, которая хватает за вымя и корову, и черта – лишь бы с копытами! Правосудие – тоже человек. В самый умудренный английский суд приволокли парня – булку хапнул. Судья спросил: «Ты почему?» «Да жрать хочется, силов нет». Судья приговорил: парня на волю, с публики денег собрать ему на первое время, лавочнику – штраф, чтоб глядел лучше. Это – правосудие. А старика спрятать, обещать кров своего закона, измаять сомнениями, а потом пихнуть, чихнув на его стон, что домой он – только вперед ногами, – это правый суд?
Располосуют на мне рубаху: а мораль?! Собакин ты сын!
А при чем тут мораль? Политика – это другой вид спорта. Это вольная борьба: сила, шеяки трещат, народ кряхтит и потеет. Мораль по-прежнему – только в конце басен. И коль нет возможности по чистейшей совести, зачем же гнуться по чужому интересу, а не стоять по своему? Нам ли давать в трату собрата, когда наши маршалы, штатские и нет, с чьих ботинок куда больше лжи и крови капало, мирно срезают подосиновики и пьют кефир по льготным ценам?
И вот тогда зыркнете вы по сторонам и тронете шепотком мое ухо: «Старик, так ежели не откупимся – немцы колбасы не пришлют. Протянем ноги!»
Да, почему-то мнится: отпустим Хонеккера, как монетку в метро – и в хорошем сытном обществе! И готовы позабыть пап-мам, отдать собутыльника, землю жрать, себя не уважить, но только чтоб завтра – как все! Во фраке и бабочке. И чтоб картуз с козырьком!
…И Хонеккер – это действительно монета. Которую надкусят и поймут, что мы фальшивы.
И меня терзает не столько судьба Хонеккера, сколько старческая немощь общественного сознания, не могущего припомнить ни имени своего, ни адреса, ни куда шел, ни откуда, эти пляски откуда угодно, только не от своей печки, переломившие наконец хребет олицетворению нашей общественной мысли – Горбачеву.
Александр Терехов».
Это фрагменты действительно замечательных статей. Помните, в прощальном письме Коротич писал: «в журнале, и это радовало меня, подрастали новые люди. …Я понимаю ограниченность мышления и своего, и своего поколения, при всем уважении к нашим опыту и знаниям. Сегодня совершенно отчетливо понимаю, что дальше идти тем, кто заряжен новыми идеями». Илья Мильштейн, Саша Терехов были, может быть, первыми среди тех новых людей.
Что скрывать, я многому учился у них. Прежде всего – непредвзятому, незашоренному взгляду. Мне в то время не пришло бы в голову так написать о Хонеккере. Ведь тот отдавал приказы стрелять в убегающих из ГДР! Так поделом же ему!
…А еще в том номере журнала, в самом начале, до публицистики Мильштейна и Терехова, был мощный коллаж из фотографий Марка Штейнбока: теснящиеся на площадях соотечественники, на лицах разнообразие эмоций – чаще с ожиданием чего-то светлого, в руках – наскоро изготовленные плакаты: «Да здравствует союз: Россия, Украина, Белорусь и…»; «Спасибо, Борис!»; «НАШИ»; «Организуем поддержку нашему Президенту! Требуйте ратификации нового соглашения, отставки Центра – выдвиженцев ЦК КПСС»; «Ельцин – Иуда»; «Марш голодных очередей» и т. д. А надо всем этим мы поставили цитату из Льва Николаевича Толстого, которую я выписал еще на первом курсе университета и помню всю жизнь. «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». Эта мысль нашего апостола самосовершенствования показалась мне очень подходящей к моменту. И, как видно, редакционные коллеги со мной согласились.
Нас тогда единило дерзкое стремление рваться, путаться, биться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать… «Я даже сейчас нередко задумываюсь: а может, на самом деле и не было пленительных, страстных, бурлящих московских редакций, в которые мы направляли свои стопы? – Это не мои слова, а Саши Терехова из статьи в журнале «Журналист». – Может, так нам казалось? И кажется теперь старшим коллегам, которым свойственно приукрашивать молодость? Кто знает…
Но я бы не хотел, чтобы над нами смеялись. Мы были бескорыстны. …Жизнь была неплохая, но нуждалась в некотором улучшении. А она взяла и перевернулась и не оставила никому ничего. Не жалко. Но и не смешно».
Только Бог и еще несколько людей знают, как мы были близки к цели – новому журналу, достойному по принципам, интеллигентному, без «гламура», но и доступному улице, «массе». Но не судьба. То ли для данной частной редакции, то ли вообще для российского общества. Не знаю.
Осенью 1991-го мы провели подписку: 46 руб. 80 коп. на год. «Спасибо вам, тем, кто поверил редакции, выделив свои кровные десятки из отнюдь не переполненного кошелька, – писал в передовичке новогоднего номера Лев Гущин. – Вас больше, чем было в ушедшем году. И пусть опасливо хмурятся эксперты «Огонька», приговаривая, что каждый новый подписчик – это еще сотни рублей к возможному бюджетному дефициту редакции. Мы, журналисты, рады: нам удалось сохранить позиции самого массового, самого читаемого еженедельного журнала страны. Трудности и проблемы – вещь реальная. Будем выбираться из них вместе».
Хмурые эксперты тревожились не напрасно. Два рубля вместо одного за журнал в киоске оказались как мертвому припарки. Очень скоро зарплаты россиян стали измеряться десятками и сотнями тысяч, и за цену, помеченную в подписной квитанции дай Бог было напечатать хотя бы один номер, а не обещанные 52.
Шокирующий калейдоскоп перемен можно проиллюстрировать все теми же огоньковскими выпусками. Еще в первом номере Гущин, можно сказать, в извиняющемся тоне сетовал на «новую, увы, двукратную цену на обложке». А уже в третьем – через две недели – журнал выдавал вот такие репортажные зарисовки.
«…люди шарахались от прилавка – булка за 4 руб. 60 коп. и батон за 5 руб. испугали многих… Та же самая картина и с другими продуктами – мясом, молоком, овощами. Если в первые дни творог по 52 руб. лежал на прилавках, то теперь его просто нет». (Екатеринбург).
«…В плодово-ягодном Кишиневе банка сока куда дороже, чем на Крайнем Севере России. Трехлитровый баллон с маринованными початками кукурузы, их там уместилось четыре, стоит в овощном 53 рубля 79 копеек. Сам Бог не знает, как такие цены создавались. Покупатель в основном налегает на хлебопродукты: те еще доступны. Впрочем, подешевела сметана. Двухсотграммовая баночка, что поутру стоила 7 рублей 19 копеек, сменила к вечеру этикетку – 4 рубля 09 копеек. На этикетке, правда, написано: «Сметана прокисшая»… На столе дома «праздник»: супруга приобрела за «гривенник», десятку, 87 граммов крестьянского масла. Аптечная дозировка входит в норму».
«В Петербурге очереди за право войти в универсам все так же мавзолейны… В занимаемых с ночи очередях ждут молока по полтора, мяса по двадцать пять и водки по пятьдесят. В обычных магазинах свободно, но иногда бывают шестидесятирублевая сметана, по той же цене колбаса подозрительного сорта «Молодежная» и сосиски по восемьдесят пять.
…Еще немного, и Петербург станет Одессой, если не превратится в Чернобыль, взорвавшись у баночки с водоэмульсионной краской, как раз на побелку кухни: 67 рублей с совсем небольшими копейками. Или у советско-итальянских обоев – 14 за метр, и пока не в лирах».
А собранная с подписчиков сумма исходила из… 90 копеек за номер. А еще была тяжеленная гиря аналогичной подписки на литературное приложение к журналу. На что можно было рассчитывать? Только на чудо.
И пошли так называемые сдвоенные номера. Другими словами, еженедельник то и дело превращался в двухнедельник. Но и для этого требовались какие-то титанические усилия Гущина и Юмашева по раздобыванию средств. Я им практически не занимался, памятуя, что моя работа – выпуск номеров. Да и мои соучастники по руководству журналом не стремились втянуть меня в эти хлопоты, прекрасно сознавая, что в этом деле от меня – как от козла молока.
Однако Гущин нередко уезжал за пределы России, в основном в Лондон, где у него были заботы с проектами Советско-британской творческой ассоциации, соучредителем которой был «Огонек». В этих случаях я оставался главным по редакции. Часто это бывало испытанием не столько для меня, сколько для Вали Юмашева.
Мы все страдали из-за неаккуратно выплачиваемой зарплаты. Бывало, ждали ее месяцами. Так вот, когда отсутствие главного редактора совпадало с установленным сроком расплаты с коллективом, я с сургучно-казенным лицом предупреждал зама по экономике:
– Не хочу знать, каким образом это будет сделано, но 29 числа мы обязаны всем выдать зарплату.
И, надо же, зарплата находилась! Я в душе был за это глубоко благодарен Юмашеву.
Коротич в своих мемуарах назвал его «всегда корректным». А мне не довелось встретить ни одного человека, ни среди коллег, ни среди авторов, кто бы в разговоре о нем не отметил его благожелательность, легкость общения. Может быть, это фамильное, семейное. Я немного знал его маму – одно время мы жили на одном дачном участке в Мамонтовке. И я имел возможность наблюдать, с каким тактом, терпением и, мне казалось, увлечением она общалась с нашей малышней при устроении какого-то очередного детского праздника.
Не знаю, как складывались чисто внешние отношения между Юмашевым и Гущиным, но когда я оказывался «старшим по команде», Валя был не просто корректным в отношении субординации, а подчеркнуто безупречным. Я даже порой ощущал неудобство, казалось, эта грань способна порушить дух общепринятого журналистского содружества. Но потом я вспоминал о нашем существенном возрастном различии, а также о том, как я сам терпеть не могу даже малых признаков амикошонства, и… начинал испытывать уважение к этой его черте.
Запомнился такой вот телефонный звонок. Валентин просил разрешения не приходить в редакцию сегодня и завтра.
– Да ради бога.
Но Валя счел необходимым объяснить:
– Я заехал проведать Бориса. Он в очень плохом психологическом состоянии. Всего и всех боится. Хочу побыть с ним.
Речь шла о Березовском, о случившемся покушении на него. При взрыве его «Мерседеса» тогда погиб водитель и было ранено девять человек.
Это было летом 1994 года. Журнал давно дышал на ладан. Но тут, чувствовал я, уже наступило «дыхание Чейна-Стокса», совсем плохого предвестника. Я решил: пусть в милому сердцу «Огоньке» метаморфоза перехода в какое-то новое состояние случится без моего участия. И ушел в не вызывавшую изжогу еженедельную газету «Век» в том же формальном статусе, в каком был и в «Огоньке», первым замом главного редактора.
…Если бы этот текст печатался в газете или новостном журнале, здесь следовало бы поставить жирную отбивочную линейку. Потому что еще две-три странички будут посвящены «Огоньку», но это – совсем «иная опера»… «Давно уже другим стал «Огонек», маленький и плотный, похожий на Валю Юмашева, главу президентской администрации, – желчно, но точно описывал издание Владимир Глотов («Огонек»-nostalgia», 1998). – Журнал, благодаря его усилиям, многие годы и оставался на плаву. …Пестрый, как африканская птичка, и покрикивает так же назойливо, но не страшно. Ни особого смысла, ни серьезной тревоги от его угроз и «разоблачений». Крохотные заметочки о том, о сем, политическая тусовка, хроника президентской семьи».
Да, таким стал журнал, когда выпал из рук нищего «трудового коллектива» и всем стали заправлять самодовольные советники новорусских денежных мешков и их же назначенцы-менеджеры, не профессионалы ни в чем, не мыслящие журналистику вне модных западных форм (помните сетование Терехова: «эти пляски откуда угодно, только не от своей печки»?).
И вот напоследок еще несколько выписок из Галиных писем.
«Интересная история с «Огоньком», в который вернулся Щербаков. Еще не вышел ни один номер «нового образца», но уже ясно: хозяева, которые его купили, тоже желают ласкательности. Детей-пупсов, женщин в кружевах, мужчин в лакированных штиблетах. И чтоб материалы были коротенькие-коротенькие, чтоб не утомлять их сиятельства.
Спросите, какого же черта Саша вернулся? Хороший вопрос. Из-за денег, дорогие, из-за них. Он теперь не первый зам, а зав. направлением «Частная жизнь», и ему кружевов и пупсов достанется больше всего. Но обещают частично платить в валюте, пока еще не платили. А «Век» стал слегка тонуть, потому что богатого дядю не обрел. Скажу честно, я не хотела, чтобы Саша возвращался в «Огонек». Но второй раз пребывать на тонущем корабле он не счел для себя хорошим правилом, а тут еще надо страховать дачу, что-то в ней чинить, а денег уже на это просто нет. Так живем нормально без напряга, но 10 млн. для дачных нужд – где взять? где взять? Все подорожало безумно и, как говорится, еще не вечер».
«Щербаков счастлив на своей «частной делянке» в «Огоньке». У меня чувство противоречивое. Падение русской (мне кажется самой лучшей в мире) журналистики идет повсеместно, просто скоро вырастет поколение, которое сможет читать только рекламу, а смотреть только клипы.
В связи с этим «Огонек» даже в его оболваненном виде будет еще какое-то время лучшим среди худших. Видели бы вы, что сталось со «Столицей». Оторопь берет. Всем лезут под юбку и оттуда ведут репортажи. Даже таких святых, как Адамович, уже умерших, оставить не могут, раскапывают каких-то любовниц, баб… И это не коммунофашисты, а все свои, «наши» (!). Противно, больно, оскорбительно».
«Я не рассчитываю на контракт с «Крестьянкой» на следующий год – автор может и надоесть, и, честно скажу, слегка беспокоюсь, так как «Огонек» в своем новом качестве, по-моему, не снискал… К примеру, «Столицу», которая раком становилась перед новыми русскими, они же и закрывают. Журнецы перебрали в лизании зада».
«Сейчас вот проблемы в «Огоньке», ушли Гущина, …но все ждут с прижатыми ушами, кого пришлют. В сущности, ситуация один к одному, когда балом правил обком, сейчас это Березовский или кто-то другой. Но воли уже нет».
«…Отрывок из этой повести опубликовал «Огонек», и пришли письма от девчонок (!!!) по ростовскому университету. …Кстати, сейчас сообразила, что вместе с письмом можно сунуть и этот «Огонек», который я так и не могу признать в его новом обличье. Щербаков в нем работает как на галерах, иначе нельзя. Выкинут, не глядя ни на какие заслуги. Но журнал, на мой взгляд, ни в какое сравнение не идет по содержательной части со старым «Огоньком».
Молодые – ребята лихие, но сплошь и рядом просто малокультурные и малограмотные. Все по принципу – горячо сыро не бывает. Это падение уровня культуры – во всем. Жлоб правит бал…»
Четвертая глава
I
Саша! Не удивляйся. У Л. после запоя белая горячка. Тихое помешательство. То на улицу рвался ночью – ему в окно постучали и там ждет человек на коне. То кидался к окнам – нас замуровали. Позавчера вызывала психиатрическую скорую. Хотели положить в больницу, но обошлось уколом. Вроде было улучшение, а теперь опять… Подожду до утра, если лучше не станет – буду звонить опять.
Я понял. Жалко-жалко. Держи меня в курсе.
Саша! Вчера положили Леву (имя изменено. – А. Щ.) в псих. больницу Алексеева (быв. Кащенко). Только приехала от него. Позже напишу, как дела.
Не нужна ли какая-нибудь помощь?
Спасибо. Думаю, с месяц полежит. Сегодня была. Выглядит хорошо, голос звонкий, глаза блестят. Но несет…
– Мы должны 700 долл. За то, что стреляли из пушки по Арбату. Поликлинику разрушили…
– Ты внизу живешь, я тебя вижу иногда… (Это реминисценция Левиных видений – ему порой кажется: он на том свете. – А. Щ.)
И все в таком духе. Но с веселым видом. Домой не просится. Это, видимо, из-за лекарств. В понедельник буду с врачом говорить.
Лева дома. Все более-менее.
От Левы:
Саша! Я закончил предисловие к своей предполагаемой книге. Дает ли это предисловие хотя бы малейшее представление о предстоящей гигантской работе? Ответь, как на духу. Твой Лев.
Первое из приведенных здесь сообщений написано во время моего телефонного разговора с самим Лёвой: его жена знает, мой стационарный аппарат стоит рядом с компьютерным дисплеем, и я, скорей всего, беседую с моим дружком, не отрывая глаз от экрана. Поэтому можно в параллель моей беседы с Левой комментировать ситуацию по е-мэйлу. Однако она могла бы и не уточнять обстоятельств. Даже если бы я поверил в совершенно невообразимые ситуации, в которых, по его словам, оказался мой взволнованный собеседник, я без труда понял его состояние по неудержимому напору речи и сверхубедительным интонациям…
И я начинаю еще одну трудную для меня главу повествования.
Сразу отступление. О чем? Допустим, о законе парных случаев. Он, как я выяснил в спецлитературе, – проявляется в синхронистичных взаимосвязях психоидной природы при участии наблюдателя. Расшифруем: в сфере действия этого закона некое, как правило, редкое событие обязательно, по видимости нагло противореча теории вероятностей, произойдет еще раз: либо одновременно с первым проявлением, либо вскоре. Полагаю, большинство читателей без труда вспомнят такое. Я же здесь приведу эпизоды, имеющие отношение к психическому нездоровью.
Я рассказывал в прежних публикациях о том, как в пору студенчества оказался невольным единственным свидетелем тяжелых эпилептических припадков двух моих однокурсников. В мире страдает эпилепсией примерно один процент населения. Велика ли была вероятность встретить в группе из 25 человек двоих из этого процента? И чтобы обострения недуга произошли на глазах одного и того же лица, меня?..
Когда я работал уже в Москве, редакционный приятель, живший неподалеку от нас, однажды поделился своим несчастьем: у его сына-подростка, ровесника нашего Сашки, определили шизофрению. И мы искали пути избавления от беды.
А одновременно с этим (парный случай!) происходило что-то непонятное с моей коллегой, сидевшей напротив меня в нашем общем кабинете. Она быстро заводилась почти по любому поводу, начинала неистово волноваться, у нее вспыхивало лицо и донельзя возвышался голос, его можно было услышать чуть ли не в любом конце обширного редакционного коридора. Так я узнал некоторые внешние признаки маниакально-депрессивного психоза.
И тут рискую расширить закон парных случаев дополнением: они, стоит получше приглядеться, не просто парные, а, если можно так выразиться, троичные, о то и вовсе множественные. Другими словами, если на тебя что-то однородное вдруг попрет, то уж не обессудь…
История с двумя эпилептическими припадками, случившимися меньше чем за год, посередине этого периода дополнилась первоначальным знанием творчества и личности Достоевского с его ныне всем известной хворью, которой он «одарил» князя Льва Николаевича Мышкина и некоторых иных своих персонажей. А уж психотические особы, и с маниакальным, и с депрессивным синдромом, появлялись в моей жизни с каким-то непостижимым постоянством. И я невольно приобрел навык распознавать их недуг.
Доходит до курьезов. Традиционно сидим с друзьями в моей уютной кухне, смакуем приготовленную женой одного из них воскресную трапезу под негромкий звуковой фон какой-то радиопередачи. Я говорю: «Помяните мое слово, женщина, которая сейчас вещает, на следующей неделе уйдет в отпуск». И действительно, через день или два в некой интерактивной программе слышим ответ слушателю: «А на счет вашей любимой ведущей не волнуйтесь: она просто в небольшом отпуске».
Лично я и не волновался, хотя еще намедни раскусил и по вдруг возникавшему неудержимому смеху, и одновременно по какому-то особо обидчивому тону разговоров радиодамы, что она в состоянии специфичного психического напряжения. А та моя давнишняя редакционная коллега после лечения в больнице в одном доверительном разговоре рассказала, как эскулапы научили ее жить без тяжелых психотических аварий. Ей нужно было просто взять в привычку самой улавливать признаки готового разразиться срыва и немедля прийти к врачу. И тот малыми усилиями и за считанные дни, если не часы, укротит норовящий вырваться за допустимые пределы душевный раздрай.
Судя по всему, совет был дельным. Сослуживица моя из года в год подымалась и по служебной, а главное, по общественной лестнице. Способствует этому, мне кажется, ее сверхотзывчивость на повседневные сложности и людские невзгоды, которая, без сомнения, связана с психическим строем очень незаурядной женщины.
А сын моего приятеля со своей шизофренией, пойдя по стопам отца в журналистику, вообще сделал головокружительную карьеру. Но, в отличие от очень многих карьеристов, скурвившихся «в наше непростое время» под прессом властей, живет абсолютно достойной профессиональной жизнью.
Боже меня упаси предполагать, что для успешной работы в нашем деле было бы неплохо подхватить шизофрению или какой-нибудь психоз. Я только хочу сказать, что в двадцатом столетии (пусть и прослывшем как «век-волкодав») с его уровнем научного познания и медицины эти и похожие на них недуги уже не были ниспосланными небом неотвратимыми проклятиями, а, можно сказать, – просто особыми условиями вариантов жизни. Как с диабетом, например.
Это отступление о парных случаях понадобилось мне, чтобы через шизофрению и маниакально-депрессивный психоз плавно и как можно безболезненней ввести в мой сказ …алкоголиков.
Вот уж на кого мне везет, как говорится, «всю дорогу»! Сразу скажу: большинство из них – мои друзья или добрые приятели. Читая дальнейшее, учитывайте и это обстоятельство.
Думаю, читатель догадался, в данном случае я отношусь к алкоголизму тоже как к одному из способов бытия – хотя и чрезвычайно сложному, изломанному, трудному. Как для обладателя этого свойства, так и для его окружения.
Лишь незначительная часть из такого рода моих знакомцев поборола свою малопочтенную склонность. Знали бы вы, как я их уважаю! Независимо от того, симпатичны они мне или не очень.
…Валентин С. однажды обнаружил себя буквально под забором. И в тот же день узнал от жены, что больше у него нет семьи. Он записал ту дату и поклялся себе: больше в жизни никогда, ни капли, ни под каким видом. Совершенно новая, с нуля жизнь.
Он пришел в нашу редакцию в поисках работы, не скрывал свою предысторию и повторял одно: «Возьмите меня, не пожалеете». Главный редактор взял. И действительно не пожалел. Хороший был работник. Однако во мне вызывал не то чтобы отторжение, а желание обособиться от него. В первую очередь потому, что он обладал способностью не только узнавать, а еще и угадывать твои умонастроения, вкусы, пристрастия и старался… соответствовать (угождать?) им.
Вот ведь трансформация! То, что в обычном бытовании, а особенно в дружбе, ценится едва ли не выше всего, в производственных, профессиональных взаимоотношениях обращается в какую-то противоположность себе. Невольно думаешь: а на самом-то деле – что? Что за этой податливостью, готовностью к соглашению (которая кроется даже за якобы расхождениями – но уж больно мелкими, точнее – мелочными…)?

