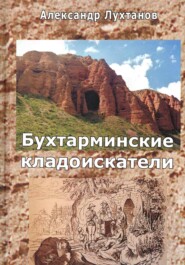 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
– Не только бывал, но и всё описал. Про станицу Алтайскую, как тогда называли Катон-Карагай, про озёра Зайсан и Маркаколь и даже про Зыряновск. А было это в 1876 году.
И вот теперь тоска по родным местам, по тайге, по Большой Речке заставила Романа отправиться в библиотеку. И верно – в читальном зале университетской библиотеки нашлась эта редкая книга. Домой её не давали, но и в библиотеке, заполучив её, Роман так углубился в чтение, что забыл обо всём на свете. Стояла тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц соседей – таких же студентов, как и Роман. Мыслями и всем своим существом он полностью перенёсся на восемьдесят лет назад. Порой ему казалось, что и он сам путешествует с немецкими учёными. Конечно, более всего его интересовала та часть книги, где описывались переход через горы Алтая и посещение Зыряновска. Как живые, в сознании Романа вставали образы не только самого Альфреда Брема, но и губернатора Полторацкого, и его жены, известного фотографа и публициста Лидии Константиновны, жителей деревень офицеров и служащих городка Зайсан и Зыряновска. Роман не мог оторваться, пока не дочитал рассказ о путешествии Брема и его спутников по Восточному Казахстану.
Экспедиция в Западную Сибирь была организована в 1876 году при содействии Русского императорского географического общества и при материальной поддержке сибирского мецената А. М. Сибирякова.
Основной целью экспедиции было исследование севера Западной Сибири, поиски северного морского пути к Сибири, но начиналась она гораздо южнее Алтая. Руководитель экспедиции биолог Отто Финш пригласил в неё своего друга и коллегу по профессии – уже знаменитого Альфреда Брема, – и к ним присоединился граф Вальдбург-Цайль-Траухберг – военный с университетским образованием.
Из Петербурга, через Москву на санях по Волге они добрались до Казани, оттуда поехали в Пермь. Затем на тарантасах через Екатеринбург – в Тюмень, а затем в Омск. Из Омска по Иртышу на пароходе сплыли до Семипалатинска. Местные власти, жители городов, интеллигенция, уже знакомая с книгами Брема (что очень удивило Брема), восторженно принимала автора «Жизни животных». Всё было похоже, как когда-то случилось с великим Гумбольдтом. Радушие, похожее на желание угодить, простиралось до того, что на отдельных участках экспедицию сопровождали главы местных властей: семипалатинский губернатор генерал В. А. Полторацкий и уездный начальник В. Е. Фридерихс. И здесь надо сделать оговорку: не только преклонение перед знаменитостью и служебное рвение двигало обоих чиновников высокого ранга – вся семья Полторацкого, включая жену Лидию Константиновну и детей, любила путешествовать, а сама генеральша занималась любительской фотографией и была известна как автор очерков этнографического и географического характера. Все – немцы и русские – были в высшей степени интеллектуалы, сам губернатор был известным исследователем и специалистом по Средней Азии, вся его семья владела несколькими языками, так что всем было о чём беседовать и обсуждать самые разные аспекты жизни, и в первую очередь научные. В свою очередь немцы были интересными и приятными собеседниками: Финш – деликатный и интеллигентный, интересующийся всем на свете, Брем – очень общительный, речистый весельчак и шутник.
Уже подъезжая к Семипалатинску, проголодавшиеся путешественники встретились с радушием губернаторской семьи. Вид захудалого городка несколько разочаровал гостей, зато они были приятно удивлены гостеприимством его начальства.
Здесь их ожидал верховой, который проводил до квартиры, предусмотрительно приготовленной для них в доме помощника полицмейстера, коллежского секретаря Николая Герасимовича Герасимова.
Несколько дней, проведённых в Семипалатинске, пролетели быстро и незаметно. Гости готовились в дальнейший путь, а Брем хозяйничал в фейерверочной хозяина – комнате для приготовления патронов для охоты. «Много же их запасали, если в течение двух дней набивкой гильз вместе с Бремом по распоряжению губернатора занимались четыре солдата, – подумалось Роману, – значит, и дичи водилось неисчислимо».
1 мая Брем вместе с местным полицмейстером, отличным стрелком, отправился на охоту на бекасов.
Цветущая степь звенела голосами жаворонков, весенние лужи кишели водоплавающей птицей. Сотенные стаи куликов, среди которых выделялись экзотические шилоклювки и ходулочники, целые табуны журавлей, яркие цветные утки-огари, пеганки – всё это могло привести в восторг любого натуралиста, и Брем в полной мере наслаждался торжеством столь богатой жизни. Брем, с восьми лет бродивший по лесу с ружьём, был прирождённым охотником. В бытность свою в Африке он отстреливал на чучела сотни птиц, но это не была охота промысловика или любителя, а работа натуралиста, вынужденного убивать птиц и зверей ради науки, ведь сбор коллекционного материала был одной из основных целей экспедиции. Вот и здесь трофеи в виде множества различных куликов, диких уток и прочих птиц пошли на кухню, а их шкурки – для коллекции в научных целях.
Утром 3 мая путешественники простились с Семипалатинском и направились на юг, в Казахскую степь к Аркатским горам, расположенным в 107 вёрстах, где намечалась первая остановка и была запланирована организованная губернатором охота на архаров. Всё было ново для немецких учёных, всё в диковинку, но с особой радостью они впервые увидели чудесную птичку, эндемика казахских степей – чёрного жаворонка.
Уже в полной темноте, ближе к полуночи путники увидели огни горящих костров. Это было заранее приготовленное становище, и у красиво убранной юрты гостей ждала хозяйка – генеральша. На ужин подавали прекрасно приготовленные восточные блюда – плов и шашлыки. Экстравагантность генеральши не знала предела: на пикнике в честь гостей она приказала привезти пианино и вместе с дочерью музицировала прямо в поле, чем привела в изумление не только немцев, но и местных аборигенов, впервые увидевших этот музыкальный инструмент. Обсуждая это между собой, они пришли к выводу, что, обладая таким инструментом, они без труда побеждали бы на любых айтысах (соревнованиях акынов).
Несколько дней путники охотились в Аркатских горах, но только одному Брему посчастливилось добыть архара.
Здесь немецкие путешественники расстались с семейством Полторацких, но договорились встретиться вновь в урочище Майтерек на южной окраине Алтайских гор, куда они должны были прийти через месяц. В свою очередь губернатор решил совместить свой ежегодный объезд границы с путешествием Брема и его спутников. Так всё и вышло.
Посетив озеро Сасыкколь и Алаколь, Брем и его спутники достигли предгорий Джунгарского Алатау, после чего повернули назад. Перевалив хребет Тарбагатай, путешественники прибыли в Зайсан, где их ожидал самый тёплый приём. Зайсану, приютившемуся у подножья Саурских гор, было всего семь лет, но это уже был вполне уютный посёлок. В честь гостей в парке на берегу речки Джеминейки вечером был устроен фейерверк и концерт хора казаков. Всё это произвело впечатление на немецких гостей, вовсе не ожидавших встретить в таком «медвежьем углу» цивилизацию и образованных людей. Но Брема интересовало совсем другое, гораздо лучше он чувствовал себя среди людей близких по духу, охотников, чабанов, крестьян. Они могли рассказать о диких животных то, чего не знали и учёные, а именно за этим и приехал сюда Брем. Более всего его интересовали сведения о таких редких животных, как дикий верблюд, кулан, снежный барс, улар, сибирский козерог.
Из Зайсана Брем совершил экскурсию в горы Саур, где по совету местного знатока края Хахлова охотился на уларов, а затем вся экспедиция по почтовому тракту прошла до реки Кендерлик, пересекла пески и вышла к Чёрному Иртышу у сопки Ак-Тюбе. Здесь путешественники пересели на приготовленные для них лодки и спустились до плавней в устье Чёрного Иртыша, где познакомились с местными рыбаками и ихтиофауной, после чего вышли в Зайсан, пристав к Бакланьему мысу на северном берегу озера. Полюбовавшись живописными останками прибрежных глин, экспедиция направилась на север, в сторону виднеющихся на горизонте Алтайских гор.
Призайсанская степь встретила их шелестом ветерка в зарослях ярко-жёлтых ферул и невысоких кустиков саксаула, звоном кобылок и пением многочисленных жаворонков, многих из которых Брем и его спутники видели впервые. Особое умиление и даже восторг вызывал чёрный жаворонок – маленькая, задорная и очень бойкая птичка с жёлтым клювом и необычного для жаворонка угольно-чёрного цвета. Пригнувшись, она бегала по земле, как мышь, или, сидя на макушке куста, весело распевала песни. Было много и других интересных встреч, ведь Зайсанская котловина, несмотря на пустынность, богата животными, здесь даже есть эндемичные, то есть нигде более не встречающиеся виды. Путешественникам повезло: они не только видели куланов, журавлей-красавок, дроф-красоток, стрепетов, бульдуруков, садж, сурков, но и поймали недельного куланёнка.
У речки Калгуты экспедиция вступила в предгорье Курчумского хребта. Берёзовые рощицы, заросли кустарников, выветрелые гранитные скалы сопровождали путешественников до местечка Майтерек, где они сделали днёвку для отдыха и охоты. Здесь они встретились со своими друзьями, губернатором Полторацким и тронулись дальше. Отношения между местными российскими властями и немецкими гостями были самыми сердечными. Это чувствовал и Роман, два дня не отрываясь в читальном зале библиотеки читавший книгу.
С нетерпением Финш и Брем ожидали появления своих друзей. Около часа облака пыли и конский топот возвестили приближение поезда, который оказался гораздо более многочисленным и блестящим, что удивило немцев и даже привело в восторг. Впереди под предводительством опытных пастухов скакал целый табун лошадей, голов в 60, которые должны были доставлять молоко для приготовления свежего кумыса, служившего живительным источником для многочисленных казахских старшин. Их было много, среди них султаны, украшенные медалями и другими знаками отличия, все на отличных лошадях и в сопровождении многочисленных верховых, перед которыми конвой, сопровождавший исследователей и состоящий из восьми казаков и дюжины казахов, совершенно терялся. Тринадцатилетний сын губернатора Саша, искусный и неустрашимый наездник, ни за что не хотел уступить в верховом искусстве казакам и казахам, и первым прискакал и приветствовал путешественников. Вскоре показались и генерал, его смелая супруга и юная дочь. Как и следовало ожидать от такого любезного семейства, свидание было столь же непринуждённо, сколько искренне и радушно, и вскоре все уже сидели за обедом в уютной юрте, весело делясь между собой случившимися за последнее время событиями.
Отсюда начинался самый трудный путь. Поднявшись по ручью Узун-булак до вершины Салкын-Чеку, экспедиция двинулась вверх по гребню хребта, по тропе, по которой чабаны гоняли скот на местные пастбища. Где-то здесь всего 13 лет назад прошёл Г. Потанин, ещё раньше Карелин и, возможно, давным-давно, ещё в конце XVIII века, – искатель ревеня И. Сиверс.
К трём часам после полудня путешественники достигли узкой луговины, лежащей на высоте 1600 м и замкнутой кругом снежными горами. Тут предполагалось расположиться на ночь, после того, как в этот день перешли 14 речек и три перевала, причём первый составлял границу с Китаем. Снег и град сменились ливнем, а что касается дороги, то о ней не могло быть и речи. Путники поднимались всё выше и выше вдоль пенящихся речек, пересекали их, иногда долго ехали по их руслу, а где утёсы преграждали путь, карабкались по узким уступам высоко над пенящимися стремнинами, надеясь только на лошадей и проводников-казахов. Финш нигде не пишет, договаривались ли с китайцами о пересечении границы, но в то время свободный проезд вполне допускался. Более того, Полторацкий, ежегодно посещая озеро Маркакуль, тем самым как бы подготавливал передачу его России.
Любовь Константиновна, невзирая на усталость и тяготы пути, вела фотосъёмку, то и дело устанавливая громоздкий фотоаппарат, делала и коллективные снимки, и пейзажные, а однажды, отстав от всех участников, задержалась до полуночи и потом вынуждена была догонять остальных уже в темноте, и это при ужасающих условиях дикой тайги, чем вызвала немалое беспокойство как генерала, так и его гостей.
В следующие два дня шёл дождь, перемежающийся со снегом. Измученные, промокшие путешественники пробирались сквозь дебри и скалы, и вдруг неожиданно открылся вид на Маркаколь.
– Это превосходно! – воскликнул Брем, глядя на зеркальную гладь огромного озера, окружённого горами, на вершинах которых сверкал снег. Несмотря на непогоду и туман, струившийся над водой, озеро поразило путников своей дикой красотой. Со всех сторон к огромному водоёму подходили лесистые горы, длинными мысами вдаваясь в водную гладь. Клочья тумана клубились в распадках, белыми призраками поднимаясь к вершинам скалистых гор.
Путешествие через озеро Маркаколь и перевал Бурхат в долину Бухтармы заняло восемь дней и было полно приключений, временами опасных и рискованных, но зато путники вдоволь налюбовались такими пейзажами, которые они вряд ли где ещё могли бы увидеть. Они мёрзли под проливными дождями, пробирались через бесчисленные бурные потоки и завалы снега, зато по вечерам грелись у костров, слушая заунывные, берущие за душу казачьи песни. Единственное, что всех огорчило: царица алтайских гор Белуха, хорошо видная с перевала Бурхат, на этот раз была закрыта облаками. Тем не менее казаки, сопровождавшие отряд, с радостью отметили возвращение на русскую землю. Граница с Китаем проходила как раз через перевал. Здесь закончился горный маршрут, дальше путников ожидал более лёгкий путь по обжитым местам. За время похода люди так свыклись друг с другом, что многие получили дружеские прозвища. О. Финша, занимающегося на бивуаках съёмкой шкурок с птиц и зверей, прозвали «поваром», а Брема за его массивный нос – «носачом».
Роман и удивлялся, и гордился, что живёт в горах Алтая, о путешествии по которым автор книги выразился так: «Я прибавлю от себя, что восхождение на вершину Грей-пика в Скалистых горах США высотой 4600 м может быть названо детской прогулкой сравнительно с тем, что мы вынесли на Алтае». Кстати, как заметил Роман, книгу писал вовсе не Брем, а Финш. И получилось так, что, пригласив в экспедицию знаменитого друга, Финш оказался на вторых ролях и даже авторство как бы перешло от него к Брему, что явно несправедливо.
Спустившись в долину Бухтармы, путники наконец попали в населённые места, где встретили самый теплый приём в станице Алтайской, как назывался тогда Катон-Карагай.
Здесь путешественников ждали богатые подарки. Кроме продуктов сельского хозяйства им преподнесли охотничьи трофеи, а именно шкуры медведя, лисицы, рыси, росомахи, соболя, колонкá, хорька, ласки, горностая, белки, байбака, летяги. Финшу, как начальнику экспедиции, были поднесены громадная шуба из меха кабарги и туземный нож. Сюрприз этот был приготовлен офицерами местного гарнизона, которые оказали такой радушный приём, что немецкие гости были поражены. Как писал Финш: «Это радушие никогда не изгладится из нашей памяти и останется навсегда одним из приятнейших воспоминаний». В юрте, особенно празднично убранной цветами, где подарки были расставлены, как в музее, члены немецкой экспедиции были встречены офицерами в парадной форме, и по местному обычаю начальником в знак особого уважения были поднесены хлеб и соль.
Комендант майор А. И. Бахарев сказал приветствие, на которое доктор Брем, как самый искусный оратор экспедиции, отвечал благодарностью от её имени. Превосходный завтрак был уже готов, и вскоре непринуждённая, весёлая беседа и тосты оживили весёлый кружок, которому придавало особый блеск присутствие генеральши Полторацкой и её дочери. Даже в музыке не было недостатка. Под аккомпанемент скрипки и балалайки казаки исполнили свои песни, которые вскоре уступили место танцам.
После полудня губернатор дал в честь немецких путешественников большой обед – короче, они наслаждались алтайским гостеприимством.
«Преклонение перед иностранными авторитетами отличало русских уже и тогда, – подумалось Роману. – Немцев принимали куда более пышно, чем два года спустя встречали экспедицию великого Н. Пржевальского в Зайсане».
Хотя пирушки и торжественные приёмы отнимали много времени, Брем и его спутники были довольны, ведь торопливость переездов не позволяла им самим добыть драгоценные шкуры зверей, которые могли быть использованы в качестве коллекционного материала для научных целей. Конечно, сказывалось и присутствие столь высокого чина, как семипалатинский губернатор. Дальнейший маршрут немцев проходил на Барнаул; здесь кончалась граница Семипалатинской области, на правом берегу Бухтармы начинался Бийский уезд Томской губернии, однако генерал Полторацкий с семьёй решил продолжить путешествие, тем более что лежащий по пути Усть-Каменогорск входил во вверенную ему территорию.
Ненастная погода, туман и дождь, лившие в Катон-Карагае, только изредка давали возможность бросить взгляд на окрестные горы, но как были поражены путники, когда, проснувшись в день отъезда, 13 июня, они увидели перед собой панораму гор, покрытых свежевыпавшим снегом, придававшим вершинам ещё более величественный вид и высоту! Восходящее солнце ещё более усилило эффект живописного горного пейзажа. Тёмные леса, окаймляющие зелёные долины, ярко освещённые пики, резкие контрасты света и тени – всё вместе производило поражающее впечатление.
Но путешественников ждали необъятные просторы Западной Сибири. Простившись со столь радушно встречавшей их Алтайской станицей, 13 июня они пересели в тарантасы, запряжённые лошадьми, и по почтовому тракту отправились в Зыряновск. Их сопровождал управляющий Зыряновскими рудниками Г. Бастрыгин. Описание этого отрезка пути Роман читал с особым вниманием, ведь путники приближались к его родным местам.
Дорога была отличная – по пути путники не переставали восхищаться прекрасными видами и временами даже досадовали, что от быстрой езды они не могли в достаточной мере насладиться открывающимися пейзажами, где на горизонте всё время виднелись снежные горы. Путешественники проезжали деревни Медведку, Солдатово, Александровку, Андреевку, отличавшиеся хорошими постройками и свидетельствующими о благосостоянии жителей. Известие о приезде губернатора и чужестранцев выманивало на улицы почти всё население. Путешественники отмечали, что русские на Алтае – красивый и рослый народ, большей частью белокурый; среди женщин и девушек нередко встречаются статные и с очень недурными физиономиями. Отметили и своеобразный костюм женщин: пёстрые платки, обвязанные вокруг головы, яркие, чаще красные, платья, ожерелья из крупных зелёных и белых бус способствовали благоприятному впечатлению. Длинноволосые, бородатые, чаще рыжеватые, белокурые мужчины не отличались от русских, живущих в европейской части страны. Бросались в глаза только их разнокалиберные войлочные шляпы, варьирующие по цвету от чёрного до светло-голубого.
Везде, где меняли лошадей и где могли видеть внутреннее устройство жилья, немцев поражала необыкновенная чистота выбеленных деревянных стен, полов и простой, но прочной мебели. Как поняли путешественники, благосостояние крестьян зависело здесь не столько от плодородия почвы, сколько от другой важной причины: они старообрядцы! Главная причина благосостояния их в том, что они не пьют водки! В то время как сибирский крестьянин значительное число дней в году проводит в пьянстве и безделье, старообрядцы работают, и благосостояние их возрастает.
Тут Роман задумался. По разговорам родителей он имел представление о жизни кержаков в былые времена. Старообрядцы не пили водку, но делали пиво-брагу и гуляли неделями. Но они знали своё дело и навёрстывали упущенное, отрабатывая потом по 16 часов в сутки.
Часам к десяти, при совершенной темноте и проливном дожде путники достигли Зыряновска и были радушно приняты в доме начальника рудников горного инженера Александра Николаевича Бастрыгина, где были к тому же удивлены самым приятным образом. Кроме пианино, на котором любезная хозяйка дома воспроизвела для них столь давно не слышанные мотивы современной музыки, в доме оказался даже бильярд.
Сам посёлок (или деревня, называвшаяся Зыряновский Рудник) не произвёл особого впечатления. Это было довольно невзрачное горнозаводское местечко, между деревянными постройками которого видное место занимали красивые дома горных инженеров. В нём было около 1800–2000 жителей.
Несмотря на то что немецкие исследователи были биологами, любознательность подвигла их познакомиться с горными работами. Они осмотрели несколько шахт и штолен, тщательно закреплённых, спускались на 15-й этаж или на 70 саженей, причём имели возможность убедиться в интересном явлении, что даже на глубине 50 метров стены подземного рудника были усеяны великолепными кристаллами льда. Зимой здесь приходилось работать ещё при более трудных условиях, и рудокопы сильно страдали от холода, доходящего иногда до 40 градусов по Реомюру; много труда и времени отнимала также очистка сточных канав. Насосы, выкачивающие воду, и другие машины приводились в действие отчасти лошадьми, преимущественно же силой воды, так как недостаток в топливе не позволял пользоваться паровыми машинами.
Громадное гидравлическое колесо приводило в действие также золотопромывальную машину, устроенную в 1826 году. В ней толокся золотоносный кварц, смешанный с зелёным колчеданом и белым свинцом, а затем очищался и промывался весьма примитивным способом в деревянных корытах и воронкообразных сосудах, причём остающиеся частицы железа удалялись с помощью больших магнитов. Главное же богатство рудника состояло в серебре, находящемся в кварце или так называемой охряной руде. Руды плавились в Барнауле в 600 вёрстах.
В Зыряновске путники пробыли не более 30 часов, и всё это время стояла ненастная погода и шёл дождь.
К счастью, погода начала проясняться, и немецкие путники вместе с сопровождающими их русским губернатором, его семьёй и Богдановым, вторым по чину горным офицером в Зыряновске, в три с половиной часа пополудни 15 июня выехали из Зыряновска и направились к Иртышу. Часам к девяти с половиной вечера они достигли Верхней пристани. Этот посёлок не мог называться деревней и состоял всего из нескольких домиков, предназначенных для сторожей. На берегу Иртыша, текущего здесь среди лугов и до самого впадения Бухтармы носящего название «тихого», лежали огромные кучи руды, которая привозилась сюда на телегах, а потом перегружалась на огромные некрасивые суда – карбасы – для доставки в Усть-Каменогорск. Этот способ был введён генералом Фроловым, управляющим Алтайскими рудниками в Барнауле в 1804 году. Там, где крутые скалистые берега не позволяют тянуть лошадьми, суда продвигались против течения с помощью якорей, завозимых на лодках. Впрочем, на высокой мачте у них имелся огромный четырёхугольный парус, и кроме длинного руля были ещё два весла, над которыми работали 7–8 гребцов, чаще казахи. Для важных гостей карбас, имевший внушительные размеры, был чисто убран и сделан деревянный помост с укрытием в виде навеса от солнца и на случай дождя. Для гостей имелись удобные сиденья – словом, всё располагало к отличному плаванию. Финш отметил, что последующая поездка была приятна ещё и потому, что они опять находились в обществе губернатора Полторацкого, его супруги и дочери и многих других лиц, с которыми познакомились ещё ранее.
Проплыв мимо устья Бухтармы со стоящей на берегу Мохнатой сопкой, немцы оживились. Широко разливавшийся до сих пор Иртыш входил в узкое русло, зажатое горами, с нависающими с берегов каменными утёсами. Карбас стремительно понесло по течению, гребцы изо всех сил заработали гребями, и по их напряжённым лицам пассажиры, впервые плывшие, поняли, насколько опасно здесь плавание. Действительно, немало плауков, как называли на местных реках сплавщиков, особенно неопытных или тем более впервые плывущих, разбивались здесь о прибрежные скалы.
– Господа, вы можете не беспокоиться, сплавщики у нас опытные, смотрите, как уверенно они держат курс! – обратился Владимир Александрович Полторацкий к своим гостям. – И не забывайте, что жизнь их самих зависит от их работы.
– Да-да, мы это понимаем и вполне им доверяем, – отвечал Брем, действительно увлечённый плаванием и открывающимися видами, всё более величественными.
А утёсы вокруг вздымались всё выше и круче. Вот показалась скала, нависшая над рекой. Редкие сосёнки украшали её обрывистые склоны, в туманной дымке за нею угадывались скалистые кручи, поросшие очень живописным лесом.
– О, майн готт! – один за другим воскликнули гости из далёкой Германии. – Лореляй! Это же совсем как на нашем Рейне!
Встав со своих мест, все трое запели песню о прекрасной девушке с золотыми волосами, по которой страдают все юноши и мужчины Дойчланд.
– О чём это они поют? – шёпотом спросила у матери Машенька, дочь Лидии Константиновны.
– Как, разве ты не знаешь легенду о Лореляй – золотоволосой красавице, из-за которой погибло немало мужчин? Она сидела на вершине скалы, а плывущие мимо рыбаки не могли оторвать от неё взгляда и разбивались о скалы.



