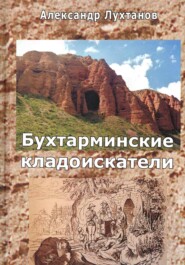 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Утро следующего дня было туманным, но пока собирались и завтракали, туман заклубился и стал на глазах таять и подниматься ввысь, в конце концов превратившись в белые облачка, плывущие по небу. Вышло солнце, и снег стал быстро сходить, к полудню оставшись лишь в ложбинах и на теневых склонах. Природа, будто оправдываясь за вчерашнюю непогоду, одаривала теплом и комфортом. Путешественники наслаждались не только созерцанием горных пейзажей, но и любовались полётами птиц, среди которых виртуозными пируэтами и звонкими голосами выделялись асы высокогорья: красноклювые клушицы и желтоклювые альпийские галки.
По одному из левых притоков Тегерека путники поднялись на водораздельный хребет, разделяющий долины Тегерека и Хамира. Открывшаяся картина всех немного разочаровала. Они увидели цирк, вовсе не такой грандиозный, как в верховьях Тегерека. Хотя и здесь были снежники и кары, но всё меньших размеров. Сам же водораздел бассейнов Оби и Иртыша выглядел невысоким зелёным плоскогорьем. Зато, чем ближе к нему подходили, тем больше становилось бабочек. Кажется, путники попали в рай из цветов, бабочек и пейзажей, радующих глаз. Порхали высокогорные белоснежные аполлоны разных видов, всюду роились тёмные чернушки – нежные, будто бархатные, создания.
Но сейчас все наслаждались теплом, нежарким солнцем, сознанием выполненного намеченного плана и были вполне счастливы.
– Неужели это и есть Холзун? – недоверчиво повторял Егорка. – То корячились, на верхотуру карабкались по скалам, а здесь совсем пологий склон и гораздо ниже, чем на Громотушке.
– Да это водораздел между бассейнами Оби и Иртыша, – отвечал Роман. – К тому же граница Казахстана и России.
– Странно получается, – с Егором согласился Степан, – главный хребет куда ниже его отрогов.
– В природе всякое бывает, – важно изрёк Роман. – Глядите, тут настоящее болото! Вода стоит, будто в озере.
Действительно, картина была удивительной. Озеро, не озеро, вроде болото, но с каменным дном, хотя и заросшее травами. Вскоре обнаружилось, что есть и стоки из него, причём в разные стороны. Одни ручейки бежали с Холзуна, на юг, другие – на север.
– Вот что значит сглаженный рельеф, – в задумчивости проговорил Роман, – а ведь такое редко увидишь, чтобы с одного болотца в горах рождались реки, бегущие в разные стороны водораздела.
– Как это? – не понял Егор.
– А так, что ручей, бегущий на юг, относится к бассейну Иртыша, а тот, что на север, – это уже бассейн Оби.
– А ведь это ещё Геблер заметил, – вспомнил Роман. – Ничего не изменилось с тех пор, и это хорошо.
Так, беседуя и обходя озерца и заросли карликовой берёзки, они дошли до сухого взгорка с торчащими из травы валунами. Одни из них были затянуты затейливыми узорами разноцветных лишайников, другие с чистыми боками, на которых проступали неясные очертания примитивных рисунков. С удивлением разглядывали путешественники изображения козлов, оленей, письмена, похожие на иероглифы, и ещё какие-то непонятные знаки. Кто и когда их выцарапал, никто не знал и не слышал об этих рисунках. Ясно было одно: сделали их древние люди. Чуть поодаль стояли каменные истуканы – балбалы. Раскосые глаза безмолвно и сурово глядели с плоских ликов. Скрещённые на животе руки оттеняли враждебность их поз. Явно эти каменные воины стояли на страже, охраняя от чужеземцев какую-то тайну. Какую – никто этого не знал, даже живущие ныне алтайцы, давно потерявшие связь древних времён.
– Странно, что за люди всё это строили, городили, рисовали? Неужели кто-то жил здесь, на такой верхотуре? Стражи Хана Алтая, – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Степан.
Все промолчали, и в душе каждый согласился с этим предположением.
Между тем пора было подумать о ночлеге. Роман со Степаном долго ходили по берегу озерка-болота, выбирая место посуше, чтобы поставить палатку. Собирали сушняк стелющейся тундровой берёзки. Егор откуда-то из-под торчащей зубом скалы приволок сухую корягу отмершего низкорослого кедра. Все были заняты делом, торопясь перед сном приготовить ужин, и солнце было уже на закате. Вдруг Агафон прервал молчание, возбуждённо воскликнув:
– Глядите, глядите, что это летит!
– Где, что, какая птица? – Егорка и Стёпа перебивали друг друга.
– Братцы, к нам движется летающая тарелка! – не менее возбуждённо воскликнул Роман. – Вот так штука, это же НЛО!
– Что-что? – не понял Агафон.
– Неопознанный летающий объект, вот что!
Стёпа вместе с другими напряжённо всматривался в стремительно приближающийся к ним диск, сверкающий и блестящий в лучах заходящего солнца. Размером он был с луну или солнце. Но это на большом расстоянии, а каков он будет вблизи – трудно себе представить. Явно межконтинентальный космический корабль!
Между тем диск летел прямо на ребят, и становилось страшновато – что он таил в себе? Что же это на самом деле?
– Что бы это ни было, но оно летит к нам. Нас атакуют инопланетяне! – то ли в шутку, то ли всерьёз вырвалось у Агафона.
– Захватят в плен, увезут на неведомую планету!
– Держи карман шире, слишком много для нас чести, чтобы лететь именно к нам! – насмешливо заметил Егор. – А вот как бы эта штука не взорвалась! А нам и укрыться негде.
Тарелка НЛО, или ещё чёрт знает что, продолжала приближаться, и даже Роман, обычно рассудительный и всезнающий, на этот раз молчал, не зная, что сказать. Но вот лёгкое облачко перекрыло видимость, диск скрылся за ним, и стало ясно, что он летит гораздо выше, чем казалось, и вскоре исчез вовсе, будто растворился в небесной лазури.
Напряжение спало, и стало даже смешно из-за глупых страхов.
– Я смотрю на тебя, Агафон, а лицо твоё белое, как снег, – смеясь, заметил Стёпа.
– Я-то что, а вот Егор всё глядел по сторонам, куда бы спрятаться.
– Вы что хотите думайте, но место тут какое-то необычное, – заметил Егор, – заколдованное, что ли. Взять хотя бы вот эти древние рисунки, непонятно кем и для чего здесь нарисованные.
– Ага, как же, космодром инопланетян! – иронично заметил Стёпа. – Тут ещё неподалёку Шамбала, придуманная Рерихом. Всё одно к одному, не хватает только снежного человека.
Все оживлённо обсуждали происшествие, теряясь в разных догадках, пока наконец Роман не высказал свою гипотезу, похожую на истину:
– Это запустили в космос ракету, а мы видели отделяющуюся от неё ступень. Она летит по инерции и где-то должна сгореть или упасть.
– А-а, я что-то понимаю, – признался Агафон, – я слышал, что охотники в долине Тургусуна находят странные предметы, железяки из алюминия, и кто-то даже приспособил их у себя в хозяйстве.
– Значит, железяка – это всего-навсего пустая болванка, – судачил Егор, – а мы-то напужались!
– Такая железяка шарахнет по башке – мало не покажется! – поддакивал Агафон. – Кто ж её знает, где упадёт?
Вечер пришёл холодный, с ледяным ветерком. Сидели, грелись у костра, рассказывая были-небылицы.
– Сидим мы тут на Холзуне и в ус не дуем, не знаем, что бывает на этих белках зимой, – начал свой рассказ Егор. – А мне дед рассказывал, как его дед через этот Холзун ходил в Уймон, и, бывало, не только летом, но и зимой. Он там и жену себе подглядел в молодости. И не он один так бродил. Из Уймона на Бухтарму тоже за невестами шастали.
– Ты говори, говори, да не заговаривайся! – вставил Агафон. – Знаю я тебя, любишь ты приврать! Летом и то мы кое-как сюда забрались, а ты – зимой!
– Ей-богу, не вру! – вспыхнул Егор. – Спроси хоть моего отца.
– Давай рассказывай, – подбодрил Роман. – Старики своё дело знали, нам только позавидовать можно.
– Так вот, этот дед, будучи молодым, навещал родню на Катуни и как-то вздумал идти зимой. А путь ему был знаком ещё и потому, что под белками он ещё и охотился и осенью, и зимой. И вот где-то у вершины Холзуна застаёт его метель. Метёт – спасу нет. Видимости нет – не знает, как идти, да и опасно – оплывина задавит. А он, не будь дураком, с собой две меховые шубы прихватил. Знал, что такое зима в горах. Закутался в них с головой и спит себе, засыпанный снегом. Так метель два дня гужевала, а на третий день, когда смолкла, вылезает дед живой и здоровёхонький. Конечно, он тогда не дедом был – крепким деревенским парнем.
– Бывает, – заметил Стёпа, – в снегу, да ещё с двумя шубами, пожалуй, можно и отлежаться. Косачи и без шубы в снегу ночуют.
Уймон
На следующий день путники спускались по северному склону Холзуна в сторону Горного Алтая, где сквозь горы пробивается Катунь, где в лесных дебрях затерялся загадочный Уймон. Уймон – что за странное слово, вроде бы не имеющее ничего общего с русским языком? Однако оно имеется в Толковом словаре В. Даля, хотя и упоминается как-то вскользь, и приводятся давно забытые поговорки: «Вертит, как леший в уйме», «В уйме не без зверя, в людях не без лиха».
– В общем, дикое лесное место, населённое лешими и чудищами, где можно укрыться, спрятаться, но есть лихо и не без зверя, – своими словами пытался объяснить и разобраться Роман. – На Бухтарме беглецы прятались по диким ущельям, получившим название Камня, а здесь ещё более дикое место назвали Уймоном.
Переночевав на опушке леса, путники продолжили путь вдоль шумливой речки со странным названием: Банная (она же Хаир-Кумын северный).
– Ребята, тут, похоже, памятник, – непонятное сооружение у берега реки первым приметил Агафон.
– Памятник? Ты что, откуда в тайге взяться памятнику?
– Ей-богу, сделано человеком, как бывает на кладбище.
Ребята столпились у разрушенного постамента в виде тумбы, сложенной из дикого камня. Он едва выглядывал из высокого дудника и заросшей бузины. Вдруг выскочил бурундучишко, мигом взобравшийся на макушку обелиска. Чёрные бусины его глаз выражали явное любопытство.
– Да, верно, памятник, – с удивлением подтвердил Стёпа. – Неужели кто похоронен? Место-то вроде неподходящее, берег реки, да и деревня отсюда далеко. – И тут вдруг до него дошло: – Ребята, так это же памятник тому немцу-геологу, о котором рассказывал Максим!
– Да, это памятник Петцу! – вспомнил фамилию Роман. – Тут сомнения быть не может. Жаль, что он в таком плачевном состоянии.
Кое-как попытавшись сложить обвалившиеся плиты на постаменте, ребята постояли молча, отдав дань памяти мученику науки, и продолжили свой путь.
После полудня они набрели на одинокую усадьбу, стоявшую на опушке. На этот раз это был жилой дом, хозяин – обросший длинными волосами и с большой бородой старик – пригласил их к себе.
– Вот так и кукую бобылём, – жаловался дед Кеша. – Тоскливо одному. Только и есть живая душа, что моя бурёнка да кот. И тот разленился так, что мыши гуляют. Иной раз проснёшься от их возни. Пищат, скребутся, шебуршат. Сплошная нечисть, а подумаешь: значит, не один.
– А то ещё домовой даст о себе знать, – вспомнил вдруг дед, то ли в шутку, то ли всерьёз.
– Как это? – не понял Егор.
– По чердаку ходит. Его ведь днём не увидишь, но услыхать можно. Особенно в непогоду. То дверцей скрипнет, то что-то уронит. Беспокойный такой старикашка. А когда я сплю, спустится с чердака в мою светлицу, шарится по углам, а больше у печки. Греться, видите ли, ему надо – старенький же. Кости у него, как и у меня, ноют, особенно в непогоду. Когда дождь зарядит – страсть как свербит, мочи нет. Сплю, а сам верчусь, с боку на бок переворачиваюсь.
– А что же ест он, ваш домовой? Не одним же святым духом питается?
– Вестимо, хлебушек ему нужон. Он крохи со стола прибирает. Я утречком проснулся, а стол чистый, будто подметённый.
– Так, может, мыши это хозяйничают?
– И мыши тоже, и домовому остаётся. Много ли ему нужно? Когда очень уж холодно, он у меня за печкой отсиживается. Иной раз я ему туда на простеночку и хлебца покладу.
– А Михайло Иваныч не приходит?
– Как же, непременно навещает. Мы с ним в друзьях. Мне вот тут один проезжий рассказывал, как у них там, где-то на юге, медведь повадился приходить за арбузами. Встанет на задние лапы и ждёт. Хозяину делать нечего – кинет ему арбуз. Тот поймает двумя лапами, схрумкает и опять выпрашивает подачку. И так, пока не наестся.
– Но у вас-то арбузов нет.
– В том-то и беда, а мёдом его не накормишь. Слишком накладно будет. Приходится на его совесть напирать.
– Чего-то ты, дед, непонятно говоришь, – не выдержал Агафон. – Какая такая совесть у медведя?
– А такая же, как у тебя, а может, и лучше. Кто тебя знат. Когда этот медведь приходит, я его уговариваю, совестлю. Он послушает, послушает, да и уйдёт. Ко всякому живому существу подход надо иметь. Будешь на него кричать – он ведь и осерчать может. А я ведь потихоньку, по-хорошему говорю, увещеваю. Даже скотина и та доброе слово понимает, а тут медведь. Так что мы с ним не ссоримся.
– А кто-ж тут памятник на реке изуродовал? Не по-человечески ведь это.
– А кто говорит, что по-человечески? Бессовестный народ пошёл. Приезжал тут какой-то человек, то ли бригадир из совхоза, то ли ещё кто он – не знамо. Каменья энти в памятнике ему, видите ли, понадобились. Говорит: чего его жалеть, немчуру этого! Вот и раздолбал, накажи его бог. Дальше пойдёте – ещё не то увидите. Там пониже вдоль реки каменные идолы поставлены – думаю, калмаками в стародавние времена закопаны. То ли мужики, то ли бабы, стоят истуканами, а в руках рюмка. Может, вы что про них знаете?
– Это не алтайцами, не телеутами поставлено, подревнее кто-то будет, – пояснил Роман. – Алтайцы своих идолов из дерева вырезают, а тут каменная баба, да ещё с рюмкой в руках. Хотя вряд ли это рюмка – возможно, просто чаша.
– А вы куда держите путь? – поинтересовался отшельник.
– В Уймон, дед, куда в старые времена люди прятаться бежали.
– Так в село али на реку?
– Какая такая река Уймон? Там Катунь одна только.
– Это по-вашему, а по-нашему что река, что деревня – всё Уймон. А чего вам там делать, реку посмотрите, да и вертайтесь. Всё одно – Алтай: что у вас на Бухтарме, что на Катуни.
Так всё и вышло, через два дня мальчишки вернулись домой.
Трагедия в тайге
Лето – горячая пора для любого сельского жителя, а для пчеловодов особенно. «Июль всё решает, – сколько раз повторял Пётр Иванович, – будет медосбор – будем на коне. Пчёлки наши трудятся, лишь бы погода не подвела, а то ведь и дожди могут зарядить». Роман и Стёпа безвылазно помогали родителям в поле, лишь мечтая о вылазках в лес и горы.
В конце месяца прошёл слух, что в тайге туристами найден скелет человека. Следователи в сопровождении лесника пробрались на место с величайшими трудностями. Разлился Хамир, да и притоки его бушевали так, что лошади отказывались идти вброд. Больше недели ждали, когда усмирятся реки. Начались без перерыва дожди, травы поднялись в рост человека. Труден был путь.
Савелий – лесник, взятый едва ли не насильно в проводники, – ворчал:
– Ни в жисть не пошёл бы я на то гиблое место, там и чёрт ногу сломит, не то что моя старушка Сивуха, да и я сам уже стал стар, чтобы карабкаться в таких дебрях.
Он же, Савелий, надоумил тогда власти, что не так уж безлюден Холзун – бывают здесь людишки, а некоторые бродят постоянно.
Вспомнили тогда, что год назад сгинули в тех краях парни-охотники, зашедшие в чужие края и погубленные невесть кем и за что. Поминали и геолога-москвича, бог знает зачем околачивающегося из года в год в верховьях буйного Тегерека.
Сгинул да и сгинул – кто будет искать, лазать в каменных завалах и буераках среди скальных утёсов в таежном буреломе?
Ёкнуло тогда сердце у братьев – неужели Максим? И отец, постоянно наведывающийся в Столбоуху, ничем не мог успокоить, напротив, сказав только:
– Похоже, ребята, что это ваш знакомый москвич и есть. Мне то поведал Алексашин Михаил, наш участковый в Столбоухе, а откуда он узнал – видимо, от следователей, приезжавших из Зыряновска. Опознали по одежде продавщица из магазина в Столбоухе, у которой время от времени отоваривался москвич, да лесник, знавший о его существовании.
Страшную находку обнаружили в зарослях ивняка на берегу Тегерека. Было ли что при мёртвом теле – неизвестно. Сплошная загадка, как ни крути. В акте следствия, в графе «причина смерти» записали ничего не говорящую и даже малограмотную фразу: «Скелетизированный труп», из которой можно было сделать вывод о нежелании и неспособности правоохранительных органов установить настоящую причину гибели человека. Единственный вывод из этой трагедии – никому не нужен человек, если не запросили родственники. А запросов не было, хотя следователи сносились с Москвой, где прописан был погибший. Оттуда пришёл ответ: «да, числится, но уже не работает в институте, год назад уволился, о родных сведений нет».
Несчастных случаев в тайге, даже в знакомых ребятам окрестностях Столбоухи, не счесть. Куда больше, чем в ближайшем городке Зыряновске, где и шпаны полно, и опасное горное производство на шахтах. Совсем недавно нашли пропавшего соседа – пчеловода и охотника. Ушёл в декабре проверять капканы – и с концом. Сколько ни искали – пропал человек, и никаких следов. Догадывались, конечно, что под оплывину попал, но где там зимой докопаться, когда бывает, свалится сотня, а то и более тонн снега. И верно, лишь в мае месяце вытаял сосед, и где… на дереве зацепился. Как ахнула лавина, так вместе с человеком вымахнула через речку, остановившись лишь на противоположном склоне горы. Беднягу к берёзе припечатало, а снег после такого удара становится плотным, что твой бетон, – не выкарабкаешься. Страшная смерть – быть заживо замурованным.
Вот и москвича останки свезли в Путинцево, похоронили на местном кладбище, родные почему-то не приехали, да и забыли. Забыли – кому нужна чужая душа?
Зато для братьев смерть Максима была трагедией. Снова и снова на память приходили их последняя встреча и разговор, оставивший яркий след в их душах. Несомненно, Максим был человеком неординарным, не похожим на других. Отказ от цивилизации и привычного комфорта, образ мыслей, преданность своему делу – всё это привлекало. Особенно пришёлся он по душе Роману, тянущемуся к знаниям и мечтающему посвятить себя науке. Нравилась в москвиче и привязанность его к родным местам братьев. Даже отшельничество Максима, его нелюдимость и угрюмость Роман оправдывал в чужом человеке.
Военная операция
Что же случилось с опытным таёжником? Этот вопрос волновал обоих – и Романа, и Степана. Даже им было ясно, что следствие было проведено формально, а вернее даже, что его и не было на самом деле.
«Надо самим побывать на месте, найти бывшее его жилище. Возможно, там остались его рабочие записки, результаты его геологических изысканий, наверняка представляющие интерес для производственников-геологов». Так думали оба и твёрдо решили пробраться на место, попытаться найти хотя бы какие-то следы трагедии и попытаться разобраться, что же произошло. Какие-то зацепки могли быть на месте его обитания.
Их знакомый Пахом Ильич, опытный охотник-соболятник, исходивший горы, подсказал:
– По всем ущельям и охотничьим участкам разбросаны охотничьи избушки. Бóльшая часть их теперь пустует, некоторые совсем пропали, другие еле-еле живы. Но переночевать можно, а в некоторых даже и перезимовать. На Тегереке избушка стоит в вершине Длинного ручья. Знаете, где Длинный ручей? Вот-вот, не доходя водопадов свернёте по левую сторону и шпарьте по ручью вверх, пока не упрётесь в кедрач. Там и избушка. В каком она сейчас состоянии, не знаю, но думаю, если подшаманить, вполне можно и соболевать.
Собраться всем удалось лишь в начале августа, да и то отпросились у родителей всего на три дня. Долго и спорно обсуждали план действий.
– Тайник надо искать, – убеждал Егор. – Там могут оказаться и ружьё, и записные книжки. А тайник, скорее всего, вовсе не в избе, а где-нибудь в другом месте. Например, в пещере или дупле.
– Где же ты его найдёшь, дупло? В лесу сколько деревьев! – кипятился Агафон. – Что, их все осматривать? Ничего из этого не выйдет.
– Деревьев-то много, а дуплистыми бывают только тополя, – гнул свою версию Егор. – А тополя растут только вдоль речек. А дуплистых среди них раз-два и обчёлся. Вполне реальная задача найти.
Роман со Стёпой помалкивали, надеясь, что тайну гибели Максима поможет разгадать его жильё. Не может быть, чтобы там не остались следы.
Тегерек встретил путников настороженной тишиной. Давно уже умолкли птицы, готовясь улетать в тёплые края, и лишь неумолчный шум реки сопровождал четырёх друзей на всём их пути. Егор и Агафон вели себя беззаботно, радуясь встрече с полюбившимся ущельем, но Роман и Степан были более чем серьёзны. Оба не забывали озабоченность Максима в последнюю их встречу и были твёрдо уверены, что Максим был убит бандитами, присутствие которых он чувствовал. А раз так, то надо соблюдать осторожность, быть начеку и помнить, что бандиты могут встретиться и им. Тайком от родителей братья взяли с собой ружьё с патронами, заряженными жаканами, они же посоветовали и Егору прихватить из дома также тайком мелкокалиберную винтовку. В какой-то степени разрядкой напряжённости стала картина, возникшая в лучах утреннего солнца. Ночной туман над рекой стал рассеиваться, и, как чудесное видение, вдруг возникла пара лосей, стоявших на берегу Тегерека. Они спокойно взирали на путешественников, а потом не торопясь и даже как-то церемонно и плавно скрылись в прибрежном тальнике.
– Какие красавцы! – непроизвольно вырвалось у Степана, а Роман добавил:
– Вот тебе и разгадка, как можно прожить в тайге без магазина и огорода.
– Да, лосей бьют все, кому не лень, – согласился Стёпа, – пасечники и даже лесники и егеря, обязанные охранять диких животных. Вот только как сохранить мясо летом, когда жара доходит до тридцати градусов?
– А ты забыл наш домашний ледник? До середины лета в погребке снег долёживает. Опытные таёжники сушить мясо умеют. Находят выход.
Путники остановились около горки промытого песка на берегу Тегерека, где ещё недавно они беседовали с Максимом. Не сговариваясь, ребята молча остановились, отдавая дань памяти человеку, который так быстро и внезапно вошёл в их жизнь и стал их другом. Было тихо, где-то щебетали птицы, ветер слегка шумел в верхушках деревьев, солнце светило так, будто никакой трагедии не происходило. Тем не менее Роману показалось, что и ветер потихоньку плачет, а птички и река поют грустную песню.
В унисон настроению ребят вдруг где-то рядом застонала, во весь голос закричала желна, и голос её, печальный и тягучий, как звук певучей, но грустной зурны, разнёсся на всю тайгу. Обычно саркастичный Егор на этот раз никак не комментировал, не сказал ни одного язвительного слова в адрес лесного лешего, как он раньше называл чёрного дятла.
Из состояния транса всех вывел звонкий крик кулика-перевозчика, присевшего рядом, у самой воды. Первым заговорил Агафон:
– Если здесь кто и живёт, то ходит очень осторожно, – заметил он, оглядывая поляну со всех сторон, – нигде никаких следов человека.
– Зато смотрите какой-то зверь наследил! – в тон ему ответил Егор и добавил с удивлением: – Какие-то они смешные, следы, хотя и чёткие. Кто-то бегал по мокрому песку, лапки маленькие, аккуратные, а впереди будто гвоздями, песок истыкан. Кто знает, что за зверь?
– Лиса, однако, – предположил Стёпа.
– Какая лиса, если когти чуть ли не в ладонь?
– Вот загадка: живём в лесу, а разгадать не можем.
Предположения сыпались одно за другим: рысь, росомаха, даже бобёр, хотя такого зверя здесь отродясь не знали.
Рысь отвергли – мал след для большой кошки. Да и зачем ей когти выпускать на ходу – она их, наоборот, втягивает. А вот если росомаха? Её никто из ребят не видел. Может, она и наследила?
Про следы забыли, углубившись в травяные дебри, и вдруг в зарослях мелькнула полосатая спина убегающего зверя. Барсук! Вот и разгадка странных следов.
– А коготки-то у него, пожалуй, больше медвежьих будут, – заметил Агафон.– Покопай-ка землю лапами без когтей!
Вспомнили, что про барсука упоминал и Максим. Видно, тот самый барсук, что не захотел дружить с геологом. Эх, Максим-Максим!
У Длинного ручья Роман разделил всех на две группы.
– Видимость здесь плохая, идём порознь, подстраховывая друг друга.
Остатки тропы кое-где сохранились, но в основном шли, проламываясь сквозь травяную чащу.
– Глянь-ка, заломленная дудка борщевика, – приметил Агафон, шедший в первой паре с Романом.
– Да, это мог сделать человек, – согласился тот, – причём недавно, излом совсем свежий.
Вскоре увидели и отпечаток сапога на сыром участке голой земли, и он произвёл на обоих такое же гнетущее впечатление, как когда-то на Робинзона Крузо следы людоедов, высадившихся на его необитаемом острове. Ещё более зловещая находка ожидала дальше. Зоркий глаз Агафона обнаружил среди кустов мордовника и борщевика заточку – самодельный нож, из тех, что обычно изготавливают зэки в зоне из напильников.



