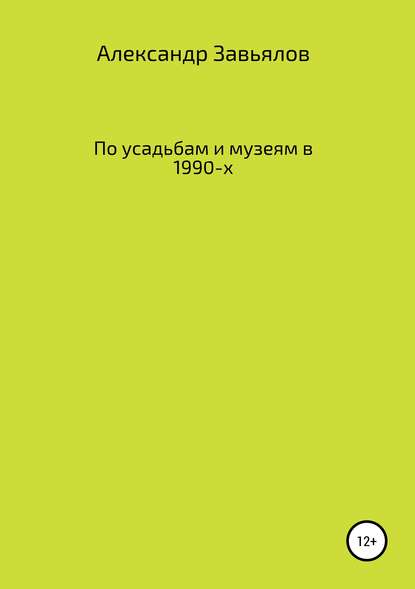 Полная версия
Полная версияПо усадьбам и музеям в 1990-х
Петр I, узнав о бедственном положении пустыни «Екатерининская роща», как стала называться обитель, повелел выдать монастырю задержанное жалование (и тогда были задержки с зарплатой) и деньги на облачение церковнослужителей.
Екатерина II также не обошла вниманием пустынь – при ее правлении был выстроен великолепный Екатерининский собор, кельи, каменная ограда с четырьмя башнями, обновлена надвратная Никольская церковь с колокольней.
Война 1812 года пощадила пустынь, хотя в ней побывали французы. В монастыре хранились в память об этой войне знамена, подаренные князем Петром Михайловичем Волконским.
По мере строительства железной дороги разрастался с 1900-х годов на землях купца Павла Расторгуева поселок, названный его именем. Монастырь еще действовал. Ознакомиться с его образцовым хозяйством приезжал даже нарком Чичерин. Но в 1931 году монастырь закрыли и на его территории устроили тюрьму. Сначала для уголовников, а потом, освоив место и оборудовав здания, разместили и более страшное заведение – политическую тюрьму НКВД, получившую в народе название «сухановка».
На фоне монастыря появилась кирпичная труба, а печь построили в самом Екатерининском соборе. Храм был превращен в крематорий. Был ли подобный пример в истории?
Кабинет Берии размещался в корпусе монастыря в стенах бывшего ежовского кабинета. Лифт вел в подвал, где были сооружены карцеры. Берия лично допрашивал некоторых заключенных. А потом, может быть, он и его подручные подкреплялись обедом из кухни дома отдыха архитекторов.
На воротах монастыря теперь надпись: «Свято-Екатерининский мужской монастырь основан в 1658 году, восстановлен в 1992 году». И все. Христианское учение учит не помнить зла, но в исторической памяти человечества и добро и зло остаются навсегда.
Проезд: с Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, далее пешком.
Июнь 1997 г. Фото из архива автора.

Главный усадебный дом
Троицкое (Ленинский район)
«Край родной долготерпенья…»
Хорошо известен московский дом Тютчевых в Армянском переулке, отреставрированный и переданный Детскому фонду. А в Подмосковье?
Память о Федоре Ивановиче Тютчеве связана в Подмосковье, в основном, с музеем-усадьбой «Мураново», где, как теперь считают, сам-то он и не бывал. Но есть другое место в Подмосковье, где поэт проводил в юности свои летние месяцы, читал, учился, беседовал с друзьями.
Родители Ф. И.Тютчева на десятом году его жизни пригласили к сыну хорошего воспитателя, знатока классической древней словесности, поэта и переводчика Семена Егоровича Раича. Раич вспоминал, как бывало, весной и летом, живя в подмосковной усадьбе, они выходили из дома, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение.
О той же подмосковной деревне вспоминал и другой деятель русской культуры, историк и писатель М. П. Погодин, в те годы, как и Ф. И. Тютчев, студент Московского университета. Из дневника Погодина за 1820 год, 9 августа: «Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, в божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо…». Что же это за деревня, в которую Погодин ходил пешком из расположенных неподалеку Знаменских Садков, где он тогда был учителем в доме князя Трубецкого? В «Исторических материалах…» Холмогоровых об этой деревне приводятся следующие сведения: «…B 1678 г. деревня находилась в поместье за Михаилом Остафьевым сыном Зыбиным, в ней был двор помещиков с 2 человеками деловых людей; потом этой деревнею владел Федор Шакловитый; в 1690 г. она пожалована думному дьяку Автоному Ивановичу Иванову, при нем деревня названа селом по церкви Ново-Троицким… После Автонома Ив. Иванова имение досталось его сыну Николаю…»
Во второй половине XVIII века Троицкое принадлежало молодой вдове Дарье Николаевне Салтыковой, третьей дочери сына думного дьяка Иванова, а в семейство Тютчевых Троицкое перешло благодаря деду Ф. И. Тютчева. В книге писателя В. В. Кожинова «Тютчев» в связи с этим написано: «Начать с того, что Николай Андреевич Тютчев в молодости был в любовной связи с Дарьей Салтыковой – чудовищной изуверкой, вошедшей в предание под именем Салтычихи. Они были дальними родственниками (мать Салтычихи – урожденная Тютчева), и их подмосковные имения соседствовали… Ее конфискованное имение Троицкое по Калужской дороге (ныне в километре за Московской кольцевой дорогой) в конце концов было куплено Николаем Тютчевым». Вот так в имении, где совершалось злодейство, довелось жить уже в другом веке будущему поэтическому гению.
«От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь…».
Это стихотворение написано было Тютчевым о других местах, здесь же уцелела частично только церковь.
Троицкая церковь была построена еще в конце XV1I столетия при думном дьяке Иванове. При отце Ф. И. Тютчева, Иване Николаевиче, был сооружен придел. Служитель церкви, знаток истории этих мест, рассказал о возрождении храма, о том, что год назад восстановили колокольню, сделали новые полы – ведь в церкви было общежитие. Почистили усадебные пруды.
Конечно, Троицкое не занимало в жизни Тютчева того места, которое занимал Овстуг на Брянщине, где он родился и часто бывал почти до конца жизни. Но все-таки Троицкое (или Теплые станы, а ныне это поселок Мосрентген), вероятно, единственное место в Подмосковье, где Тютчев жил подолгу.
В этом году исполняется 195 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева и хорошо бы тут, возможно, на берегу пруда, перед церковью, установить памятник поэту.
Проезд: от станции метро «Теплый стан» автобусом № 504 до остановки «Мосрентген».
Май 1998 г. Фото из архива автора.

Троицкая церковь.
Уборы (Одинцовский район)
Два шедевра Якова Бухвостова
В излучине Москвы-реки, на вершине холма в селе Уборы стоит храм, считающийся одним из лучших произведений архитектуры конца XVII века – Спасская церковь.
Зодчий Яков Григорьевич Бухвостов, крепостной из села Никольское-Сверчково Дмитровского уезда построил храм по заказу боярина П. В.Шереметева – стольника раннепетровского времени.
С возведением этого храма связана целая детективная история. Бухвостов обязался закончить постройку в два строительных сезона, однако боярин внес со временем такие изменения в заказ, что каменщики «остановку тому делу учинили». Разгневанный боярин жалобу в Приказ каменных дел подал. Зодчий же строил в это время еще и собор в Переяславле Рязанском (Рязани), где в процессе строительных работ произошла какая-то «поруха». Осерчавший митрополит велел посадить зодчего на многие недели в тюрьму, в «железа». Опять – «остановка» строительства в Уборах и опять – жалоба боярина.
Приказ каменных дел приговорил «его, Яшку, бить кнутом нещадно и каменное дело ему доделать». И плохо пришлось бы крепостному зодчему, да боярин, сообразив, что после битья кнутом тот может вообще не закончить постройку, попросил освободить Бухвостова от наказания.
Наконец, в 1697 году все каменные работы в Уборах были завершены. Сняли леса, и храм вознесся своей ярусной стройностью, поразил изысканностью декоративного убранства в стиле «нарышкинского барокко».
Достроил талантливый зодчий и Успенский собор в Рязани, строил и в Троице-Лыкове под Москвой.
Правда, теперь Троице-Лыково – это уже Москва. И, наверное, любителям летних купаний в Серебряном Бору хорошо знакома Троицкая церковь, предполагают, что это тоже шедевр Якова Бухвостова, его «лебединая песня».
Постройка велась в 1698–1704 годах. Тогда, триста лет назад, село принадлежало роду Нарышкиных.
Храм был построен из красного кирпича, на фоне которого ярко выделялось белокаменное убранство.
На низком и широком основании-гульбище, как на ладони, преподнесли нам русские мастера дорогой подарок. Но занесены снегом ступени храма и закрыты двери. Храм ждет своего часа.
Проезд: с Белорусского вокзала до станции Усово, затем на лыжах по Москве-реке до села Уборы. Торопитесь, пока зима.
Февраль 1995 г. Фото из архива автора.

Спасская церковь

Троицкая церковь
Успенское (Одинцовский район)
«Дом – как Ватикан»
На втором этаже усадебного дома-замка, в котором разместился теперь один из корпусов Клинической больницы Академии наук, висит стенд, посвященный истории этих мест.
Село Успенское – одно из древнейших в Подмосковье. Краеведы ведут отсчет его истории от 1328 года.
В 1624 году село, разоренное войсками польского королевича Владислава, было отдано стольникам Борису и Глебу Морозовым. Борис Иванович Морозов в 1648 году женился на Анне Ильиничне Милославской, сестре царицы. Царь Алексей Михайлович подарил своему любимцу и воспитателю свадебную карету, обтянутую золотой парчой, подбитую дорогим соболем и окованную вместо железа чистым серебром. Глеб Иванович Морозов женился на Феодосии Прокофьевне Соковниной, вошедшей в историю под именем «боярыни Морозовой», известной нам по картине Сурикова.
Борис Иванович Морозов умер бездетным. Его состояние унаследовал брат, ненадолго переживший его. После этого боярыня Морозова стала распоряжаться огромным богатством, унаследованным теперь ее единственным малолетним сыном. Однако вскоре она занялась борьбой за «родную святую старину», в которую вовлек ее протопоп Аввакум. Затем последовала царская опала, постриг в монахини, смерть сына. И вот она в санях, уносящих ее на пытки и смерть. Род бояр Морозовых пресекся. Царь Алексей Михайлович повелел раздать имения Морозовых своим приближенным. Так Успенское перешло в род Апраксиных.
Петр Матвеевич Апраксин при Петре I носил титул графа, был действительным тайным советником, сенатором и президентом Юстиц-коллегии. Еще в 1691 году он построил в селе деревянную церковь «Воздвижения честнаго креста Господня», а потом, в 1726 году, подал прошение о построении новой каменной Воздвиженской церкви… В наши дни стоит в селе (или поселке) Успенском на высоком берегу Москвы-реки красивая каменная церковь с шатровой колокольней. На мемориальной доске надпись: «Храм Успения…, закрыт в 1930 году, вновь открыт в 1992 году».
После сына и племянника графа Апраксина село перешло к генеральше С. С. Бибиковой, а затем к Святополк-Четвертинским. При них здесь был основан конный завод и построен архитектором П. С. Бойцовым дом-замок. Между прочим, замок баронессы Майендорф, что в Барвихе, построен этим же архитектором.
Во второй половине 90-х годов прошлого века имение купил представитель другого известного рода Морозовых – Сергей Тимофеевич Морозов, промышленник, меценат, создатель Кустарного музея (Музея народного искусства) в Москве, брат Саввы Тимофеевича Морозова. Сергей Тимофеевич дожил до глубокой старости и умер в эмиграции. Но это было потом, а в 1897 году у него в имении жил художник И. И. Левитан, заезжал А. П. Чехов, которому здесь не понравилось: «…дом – как Ватикан, лакеи в пикейных жилетах с золотыми петлями на животах, мебель безвкусная, вина от Леве, у хозяина никакого выражения на лице – и я сбежал».
После революции в имении был детский дом, потом Институт коневодства, в войну – госпиталь, затем снова Институт коневодства и Институт леса и, наконец, – отделение больницы. «Дом – как Ватикан» стоит теперь весьма обшарпанный, в отличие от находящейся рядом отреставрированной Успенской церкви. А какой вид открывается от церкви на долину Москвы-реки!
Проезд: от станции метро «Молодежная» маршрутным такси на Горки-10 или с Белорусского вокзала до платформы Перхушково, далее автобусом.
Май 1998 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом

Успенская церковь
Филимонки (Ленинский район)
Рюриковичи – о спасении Романовых
Род княжеский Святополк-Чствертинских происходит от Рюриковичей. Князь Борис Антонович Святополк-Четвертинский – участник войны с Наполеоном, имел чин действительного тайного советника, владел с 1840-х годов имением Филимонки, что по Калужской дороге, на речке Ликовке.
Филимонки сменили прежде многих владельцев. Среди них были князь Иван Михайлович Щербатов, стольник Федор Ртищев, князь Петр Алексеевич Голицын, брат воспитателя юного Петра, Бориса Алексеевича.
Фрейлина Вера Борисовна Святополк-Четвертинская, дочь князя, построила в 1861 году двухэтажный храм над фамильным склепом, а позднее, в 1888 году, решила устроить здесь монастырь. В октябре того года произошло крушение царского поезда, в котором были Александр III и его семья. Погибло много людей, но царская семья не пострадала. Это и послужило поводом для создания монастыря, в память о брате княжны названного Владимирским.
По данным 1890 года в самом селе Филимонки проживало 36 человек, а в обители на 1895 год было уже около 70 сестер. Монастырь быстро разрастался; к 1911 году в нем жило уже 130 человек. В начале нашего столетия была перестроена Троицкая церковь, воздвигнуты колокольня и Успенская церковь (зимняя) с двумя приделами.
После революции в усадьбе располагался дом отдыха, затем школа и пионерский лагерь. Монастырь же при советской власти действовал до 1931 года, а потом был упразднен.
В храме, как рассказывала его староста, Евгения Петровна, были и столярная мастерская, и пекарня в годы войны, и склад в последнее время. Когда получили храм обратно, возникли многие трудности с оформлением документов, так как храм оказался бесхозным. Помог в преодолениb этих и других трудностей директор находящегося рядом лечебного учреждения Сергей Васильевич Осипов. Больным интерната, как никому, нужен этот храм.
Храм женского Князь-Владимирского монастыря поражает величием своих частично уцелевших стен. Как же красив он будет после восстановления! Но этому нужно помочь.
По проекту Опекушина сооружен памятник Александру III, который был установлен у храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя восстановлен. Очередь за восстановлением памятника и монастыря, где потомки Рюриковичей молились о спасении Романовых.
Октябрь 1997 г. Фото из архива автора.

Руины Троицкого храма Князь-Владимирского монастыря
По музеям Подмосковья
Абрамцево
Москва – Петушки – Абрамцево
«Только в моей подмосковной на берегах речки Вори, которая, будучи подпружена, представляется с первого взгляда порядочной рекою, только на ее живописных берегах я вполне узнал и вполне оценил и раннее весеннее и позднее осеннее ужение…»
С. Т. Аксаков
Свою подмосковную «премилую деревеньку» Абрамцево приобрел Сергей Тимофеевич в 1843 году на 52 году жизни. К тому времени он был уже известным литератором, хотя основные его литературные достижения были еще впереди. Родился Аксаков в Уфе, в старинной дворянской семье, детство провел в Оренбургском имении отца, учился в Казанском университете, службу начал в Петербурге переводчиком в Комиссии по составлению законов. В Петербурге познакомился он с писателем и президентом Российской академии А. С. Шишковым, чье «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» читал еще студентом. В доме Шишкова увидел он и Г. Р. Державина. Позднее «старик Державин» сообщил ему, что «скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который еще в лицее перещеголял всех писателей». Увлечение с университетских лет театром и знакомство с актером-трагиком Я. Е. Шушериным открыло ему доступ в театральный мир Петербурга.
В 1826 роду переехал С. Т. Аксаков на постоянное жительство в Москву. Служил в цензурном комитете, был директором Межевого института, в котором предоставил место преподавателя русского языка В. Г. Белинскому. В московском доме Аксаковых состоялось знакомство Сергея Тимофеевича с Гоголем. С Пушкиным личное знакомство не состоялось, но Аксаков удостоился одобрительного отзыва поэта за статью о его творчестве.
Унаследовав в 1837 году значительное состояние – 850 крепостных крестьян и несколько тысяч десятин земли – Аксаков, уже давно семейный человек, мог оставить службу и предаться литературным занятиям в деревенской тиши.
Здесь в Абрамцеве были написаны: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки об уженье рыбы», «Воспоминания». В этом доме с мезонином бывали многие известные люди того века. Здесь слушали в авторском исполнении поэму «Мертвые души», впечатления другого писателя от пребывания в Абрамцеве послужили материалом для романа «Дворянское гнездо». Бывал здесь и давний друг Аксакова актер М. С. Щепкин.
Через десять с лишним лет после смерти С. Т. Аксакова, в 1870 году, Абрамцево приобрел Савва Иванович Мамонтов – крупный промышленник и очень одаренный творчески человек – певец, актер, драматург и режиссер, скульптор. Он создал в Абрамцеве своеобразный дом творчества – Абрамцевский художественный кружок. Здесь жили и работали Репин, Суриков, Серов, Поленов, Васнецов, Нестеров, Коровин, Врубель. Здесь были столярная и гончарная мастерские, домашний театр. По инициативе жены Мамонтова, Елизаветы Григорьевны, были построены лечебница и школа, а по проекту В. М. Васнецова сооружена небольшая кирпичная церковь. К церкви позднее была пристроена часовня, здесь теперь усыпальница семьи Мамонтовых.
Переходя из комнаты в комнату этого дома, проходишь как бы по музею русской культуры XIX века. Живописные окрестности Абрамцева изображены в пейзажах В. Д. Поленова, здесь, неподалеку, увидел Алёнушку В. М. Васнецов и встретил одного из персонажей для картины «Крестный ход в Курской губернии» И. Е. Репин.
Абрамцево не разделило печальную судьбу многих разрушенных русских усадеб. По инициативе художника П. П. Кончаловского в усадьбе Абрамцево создается музей. На берегу речки Вори строили дачи художники советского времени. В 30-х годах в Абрамцеве, на территории музея, был построен дом отдыха работников искусств.
В наше время в окрестностях Абрамцева разрослись дачные поселки. В одном из них, в поселке академиков, бывал у друзей на даче в последние годы своей жизни Венедикт Ерофеев – автор другой русской поэмы в прозе под названием «Москва – Петушки». Ирина Николаевна, родственница владельцев дачи, показала нам комнату с кроватью у окна, где жил Венечка, красивую птичью клетку, подаренную гостем, вспомнила его добрым словом.
Проехав Петушки, Венечка оказался в Абрамцеве. Конечно, «в мире компонентов нет эквивалентов», но «и какой же русский не любит быстрой езды?»
Февраль 1998 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом в Абрамцеве


Усадебная церковь и дом в поселке
Архангельское
«Я вдруг переношусь во дни Екатерины»
В XVI веке это было небольшое село Уполозы на берегу Москвы-реки, названное так по имени его владельца, мелкого дворянина Уполоцкого. Последующие хозяева построили на месте деревянной новую каменную церковь Михаила Архангела, и село стало называться Уполозы-Архангельское.
В 1703 году Архангельское купил князь Д. М. Голицын, сенатор, президент Камер-коллегии при Петре I, член Верховного тайного совета при Екатерине I и Петре II, неудачно пытавшийся при Анне Иоанновне конституционным путем ограничить самодержавие. После 1730 года Голицын, удалившись от дел, занялся устройством Архангельского. Был построен новый господский дом, разбит регулярный парк. Князь перевез сюда свою богатейшую библиотеку (около 6 тысяч книг и рукописей).
Внук князя, Н. А. Голицын, решил заново отстроить усадьбу. По проекту французского архитектора Шарля де Герна в конце XVIII века создается новый дворцово-парковый ансамбль, включавший дворец с парадным двором, окруженный белокаменной колоннадой, парк и парковые павильоны.
В 1810 году Архангельское перешло к князю Николаю Борисовичу Юсупову, екатерининскому вельможе, ценителю искусства, собравшему богатейшую коллекцию картин – около пятисот. Целую галерею! Будучи студентом Туринского университета, князь встречался с Бомарше, Вольтером, Руссо. Служил дипломатом в Италии, Франции, Испании, Англии, приобретал по поручению Екатерины II картины для Императорского Эрмитажа, был директором Императорских театров, управлял дворцовым стекольным и фарфоровыми заводами.
Князь Юсупов разместил в усадьбе свои коллекции картин и скульптуры, фарфор, бронзу, мебель. Но началась война 1812 года. Многое успели вывезти или спрятать, и все-таки наполеоновские войска нанесли усадьбе большой урон.
К восстановлению усадьбы князь привлек известных архитекторов: О. И. Бове, С. П. Мельникова, Е. Д. Тюрина и крепостных зодчих. После другого несчастья, пожара 1820 года, заново расписывались залы дворца под руководством французского художника Никола де Куртейля. Архитектор В. Г. Дрегалов перестроил парковые террасы. Архангельское стало великолепной усадьбой и центром искусств. Здесь устраивались роскошные приемы, театральные представления с декорациями итальянца Гонзаго. Сюда приезжали царствующие особы и деятели русской культуры.
Дважды бывал здесь А. С. Пушкин: в 1827 году с С. А. Соболевским и в 1830 – с П. А. Вяземским. После смерти Н. Б. Юсупова в 1831 году Архангельское при сыне князя, Б. Н. Юсупове, теряет свое прежнее значение. Закрывается театр, лучшие произведения искусства вывозятся в петербургский дворец Б. Н. Юсупова. Внук старого князя, Н. Б. Юсупов-младший, редко бывал в Архангельском, зато издал труд по истории рода Юсуповых.
До 1917 года последними владельцами Архангельского были правнучка старого князя, З. Н. Юсупова, и ее супруг. В усадьбе побывали тогда художники А. Н. Бенуа, К. А. Коровин, К. Е. Маковский, В. А. Серов и другие деятели культуры.
После революции, в 1919 году, в усадьбе создается музей. В последние годы здесь все идут реставрационные работы. Зарастают усадебные аллеи. «Племя младое, незнакомое» еще не видело этого музея.
Проезд: автобусом № 549 от станции метро «Тушинская».
Сентябрь 1995 г. Фото из архива автора.

Главный усадебный дом со стороны парка
Болшево
«Красной нитью рябина зажглась»
Этот дом в Болшеве – не архитектурный шедевр, не тихая дворянская усадьба – это был дом, «где разбивались сердца».
…Они познакомились в Крыму, в Коктебеле у Волошина в 1941 году. «Если он найдет сердоликовый камушек и подарит его мне – мы будем вместе всю жизнь». Он нашел и подарил.
В 1917 году Сергей Эфрон уехал на Дон в Добровольческую белую армию. Затем последовали отступление, тяготы эмиграции. После долгих хлопот Марина Цветаева получает разрешение на выезд за границу и в 1922 году уезжает с дочкой к мужу.
После 17 лет жизни в эмиграции Марина Ивановна с сыном вернулись на родину, и семья встретилась в Болшеве, где уже жили Сергей Яковлевич и дочь Ариадна, вернувшиеся на два года раньше. С. Я. Эфрон еще в 1931 году, будучи активным участником деятельности «Союза возвращения на Родину», передал через советское полпредство прошение о получении советского паспорта.
«С. Я. совсем ушел в Советскую Россию, – писала М. Цветаева в октябре 1932 года, – ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет…». А о себе в письме: «Всё меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна».
«Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где – совершенно одинокой…».
Но в последней строфе:
«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге куст



