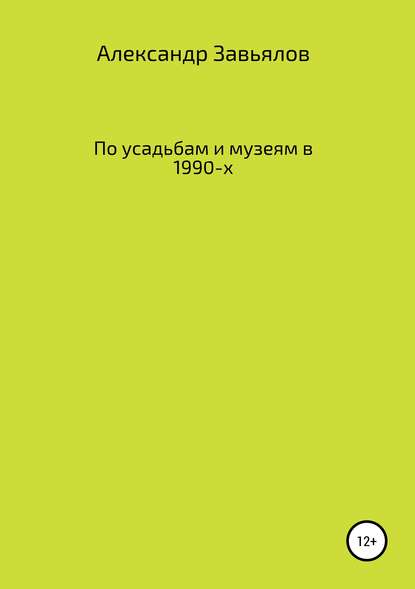 Полная версия
Полная версияПо усадьбам и музеям в 1990-х

В усадьбе Марфино
Михайловское (Подольский район)
Михайловское под Москвой
Если у станции метро Теплый стан сесть в 512 автобус, то, приблизительно через час, он привезет вас в Новомихайловское, где расположена великолепная усадьба XVIII века «Михайловское».
Это не пушкинское Михайловское, но, тем не менее, здесь прекрасный парк с прудом, внизу долина реки Пахры, а наверху двухэтажный дом с мезонином и балконом над входом. Дом построен в 80-х годах XVIII столетия по проекту архитектора И. Е. Старова для тульского и калужского наместника генерала М. Н. Кречетникова. То был «век золотой Екатерины».
«Сей дом построен в первой половине царствования Екатерины II Генерал-Аншефом и Наместником Тульским и Калужским Михаилом Никитичем Кречетниковым. В 1816 году приобретен вместе с Михайловским имением Марией Семеновной Бахметевой, рожденной Княжной Львовой с наследниками ея сестрою Анной Семеновной и племянником Сергеем Васильевичем Шереметевыми, счастливо проживавшими здесь со всею семьею. В … году продан Варварой Петровной Шереметевой Алексею Сергеевичу Мусину-Пушкину. Во исполнении заветного желания Графини Анны Сергеевны и брата ея Василия Сергеевича Шереметевых с ближайшею их семьею, приобретен и возвращен Графом Сергеем Дмитриевичем и Графиней Екатериной Павловной Шереметевыми в 1870 году».
Графиня Екатерина Павловна Шереметева была внучкой поэта и государственного деятеля князя Петра Андреевича Вяземского и дочерью сына поэта, Павла Петровича Вяземского, основавшего в 1877 году в Петербурге Общество любителей древней письменности, которое занималось изучением и изданием русских документальных памятников. После смерти в 1888 году Павла Петровича президентом Общества стал Сергей Дмитриевич Шереметев. Он же выкупил у Опекунского совета усадьбу Вяземских, знаменитое Остафьево, и перевез остафьевский архив в Михайловское. Еще при жизни Петра Вяземского, С. Д. Шереметев предпринял издание сочинений поэта, а потом и сочинений его сына Павла.
Шереметевы не только породнились с Вяземскими, но и стали хранителями остафьевского наследия, ведь сын Сергея Дмитриевича, Павел Сергеевич Шереметев, после революции не эмигрировал, а стал директором созданного в 1918 году музея в Остафьеве. Правда, музей просуществовал тогда только до 1928 года, а Павел Сергеевич, отдавший все свое состояние советской власти, умер в годы войны, как полагают, от истощения, но это уже другая драма.
Теперь в усадьбе Михайловское санаторий. Пройдите по тенистым аллеям, посидите на скамеечке возле усадебной колокольни, подумайте о тех, по ком мог бы звонить ее колокол.
Сентябрь 1997 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом

Колокольня
Молоди, Мещерское (Чеховский район)
По берегам Рожайки
Если Вам случится проезжать по Симферопольскому шоссе недалеко от платформы Колхозная, что в шестидесяти с небольшим километрах от Москвы, сверните ненадолго в поселок Молоди. В 1572 году в сражении при Молодях было разбито войско хана Девлет-Гирея.
Уже издалека видна Воскресенская церковь в стиле классицизма с двумя колокольнями. Церковь стоит на высоком берегу речки Рожайки, возле моста. Построена она была в 1706 году в селе, пожалованном в 1699 году Петром I боярину Федору Алексеевичу Головину – русскому государственному деятелю и дипломату.
Сближаясь в конце XVII века с Западом, Россия поставила перед собой первоочередной задачей прекратить столкновения на отдаленном Востоке с китайцами. В 1689 году окольничий Федор Головин с войском и вместе с тем в качестве великого полномочного посла прибыл в Нерчинск, где уже стояли лагерем китайские великие послы. Здесь после долгих переговоров был подписан Нерчинский договор, определивший границы с Цинской империей: «Река, именем Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку, с левой стороны, близ реки Черной, рубеж между обоими государствы постановить…».
В марте 1697 года в поморские страны Европы выехало великое посольство, целью которого было «подтверждение древней дружбы и любви, ослабление врагов креста господня, салтана турского, хана крымского и всех бусурманских орд». Среди великих полномочных послов ехал генерал и воинский комиссарий, наместник сибирский Федор Алексеевич Головин. Между дворянами и волонтерами, которые состояли при послах, был Преображенского полка урядник Петр Михайлов, но трудно укрыться царю под этим псевдонимом.
До конца своей жизни поддерживал Ф. А. Головин реформы Петра: был главой Посольского приказа, генерал-адмиралом, генерал-фельдмаршалом, первым кавалером ордена Андрея Первозванного.
В 1736 году подмосковное имение Головина перешло к Салтыковым, а затем, в конце XVIII века – к Домашневым, перестроившим усадебный комплекс
В настоящее время в усадьбе находятся, кроме церкви и небольшой усыпальницы в церковной ограде, господский дом, двухэтажный, кирпичный, с фасадом, украшенным пилястровым портиком с фронтоном, служебный флигель да амбар.
В доме еще недавно была школа, но для школы построили другое здание, и старый усадебный дом, как и флигель, оказались заброшенными и зияют теперь выбитыми окнами.
В огромном усадебном парке с лучевой планировкой сохранились еще аллеи и пруды, конечно, порядком запущенные.
Правда, Воскресенская церковь теперь действующая, и остается только, наверное, ее прихожанам просить Всевышнего, чтобы не допустил окончательного разрушения всей усадьбы.
Проехав чуть дальше, по шоссе можно свернуть на Мещерское. Здесь с конца XVII была усадьба князей Мещерских. В 1894 году в письме из Мелихова А. П. Чехов писал:
«В 17 километрах от меня есть село Покровское-Мещерское; тут в старой барской усадьбе теперь губернское земское психиатрическое заведение… сюда съехались врачи земские со всей Московской губернии числом около 75. Был и аз».
На одной из усадебных построек, где теперь разместился клуб, прикреплена мемориальная табличка с надписью: «В этом здании бывали в 1894–1897 А. П. Чехов, а в июне 1910 – Л. Н. Толстой».
Летом 1910 года, в последний год своей жизни, в Мещерском побывал Л. Н. Толстой, живший у В. Черткова в усадьбе «Отрада», в двух километрах от Мещерского, на другом берегу Рожайки.
На обратном пути можно осмотреть эту усадьбу и дом, в котором жил тогда Л. Н. Толстой.
Апрель 1996 г. Фото из архива автора.

Воскресенская церковь
Мышецкое (Солнечногорский район)
«О бедном гусаре замолвите слово…»
Родословная Дениса Васильевича Давыдова ведет свое начало от Касима, царя Городца-Мещерского (ныне города Касимова). Отец знаменитого поэта и партизана, Василий Денисович, был богатым помещиком, владел несколькими имениями, имел особняк на Пречистенке (где и родился в 1784 году Денис Давыдов), давал многочисленные балы и дослужился до звания полковника. Мать, Елена Евдокимовна, была дочерью генерала Е. А. Щербинина.
В полку, которым командовал В. Д. Давыдов, обнаружили большую недостачу. Поэтому пришлось полковнику продать большую часть своих имений для ее погашения. А сыну его пришлось в шестнадцать лет отправляться на службу в Петербург.
О подвигах Дениса Давыдова в войне 1812 года известно немало. А что же было потом? В 1820 году поэт-партизан, гусар, проскакавший пол-Европы, получил на своей военной службе отпуск на неопределенное время и поселился в подмосковной усадьбе Мышецкое. В 1822 году он писал своему сослуживцу: «Я три месяца тому назад продал деревню, которая была в 70 верстах от Москвы, и купил подмосковную в 30 верстах. Местоположение чудесное! Натуральное озеро версты в три длиною и в полторы шириною и все принадлежности к житию. Живу припеваючи. Звуки палок и барабанов не слышу, гусиным шагом у меня ходят одни гуси, езжу на охоту, читаю, пишу, целуюсь с женою и нянчу ребенка, гляжу, как пашут, сеют, жнут, косят, и совершенно доволен своею судьбою». Но душа у него была все- таки гусарская:
«Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар.
И с проседью усов – все раб младой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки…».
В 1826 году Денису Давыдову опять пришлось воевать. На этот раз в Персии. Затем снова Москва, Мышецкое и Верхняя Маза (приволжская деревня, данная за женой). В 1830 году в Поволжье разразилась эпидемия холеры, и поэт с семьей вновь перебирается в Мышецкое, где надзирает за вверенным ему 20-м санитарным участком, созданным в целях борьбы с заразой. Однако теперь в Мышецком было не так спокойно, как прежде – поселился некий тоже надзиратель, но по части политической благонадежности. Поэт уезжает в Верхнюю Мазу, побывав, как считают, прежде в Москве на «мальчишнике» у А. С. Пушкина. И снова в бой – в Польшу. А с 1832 года поэт жил в Мышецком, Москве, затем в селе Верхняя Маза, где и умер в 1839 году.
К сожалению, ни в Москве, ни в Подмосковье музея Дениса Давыдова нет. Дом на Пречистенке, тот, которым недолго в конце жизни владел Денис Давыдов, давно облюбовали «властные структуры». Правда, благодаря этому здание хорошо сохранилось, но ведь можно было бы создать здесь хотя бы мемориальный кабинет поэта.
В Мышецком же усадебного дома давно не существует. Остался только Конный пруд, парк и озеро Круглое. Да еще деревья, по преданию – дубы, посаженные поэтом возле своего дома. С большим трудом жители Мышецкого отстояли эти деревья от «приватизации» владельцем строящегося рядом особняка. Но надолго ли отстояли? А как смотрелся бы на фоне этих могучих великанов памятник поэту! Маленький памятник большому поэту! Русскому генералу, народному герою! «О бедном гусаре замолвите слово…»
Проезд: с Савеловского вокзала до станции Лобня, далее автобусом № 23.
Октябрь 1996 г. Фото из архива автора.

В Мышецком
Надеждино (Дмитровский район)
«Ты сердце знал мое во цвете юных дней»
Справа от Малого собора Донского монастыря в Москве находится могила, на плите которой надпись: «Петр Яковлевич Чаадаев кончил жизнь 1856 года 14 апреля». Подальше – два памятника цилиндрической формы. Под правым «покоится прах девицы Евдокии Сергеевны Норовой», под левым – ее матери Татьяны Михайловны Норовой.
Семейству Норовых принадлежала усадьба Надеждино в Дмитровском уезде. Брат Евдокии, или, как ее звали в семье, Авдотьи, – декабрист B. C.Норов – участвовал в войне 1812 года. Его записки о войне были изданы в 1834 году. Недалеко от Надеждина, в усадьбе Алексеевская, принадлежавшей княжне А. М. Щербатовой, прошли детские годы братьев Чаадаевых. А. М. Щербатова, старшая сестра их рано умершей матери, была им теткой и воспитательницей. Вместе братья поступили в Московский университет, затем в лейб-гвардии Семеновский полк, участвовали в Бородинском сражении. П. Я. Чаадаев вышел в отставку в 1821 году и через два года отплыл в Англию, в длительное путешествие по Европе. Когда он в 1826 году вернулся в Россию, многие его друзья были в казематах. Петербург и Москва для него опустели. В те годы Чаадаев часто жил в Алексеевской и сблизился с семьей Норовых. Он был высокого роста, худ, строен, безукоризненно одет, с изысканными манерами. Внутренне это был уже глубоко религиозный философ, приступающий к созданию своих «Философических писем». Сохранились послания Норовой к Чаадаеву. Вот некоторые строки: «Благословите же меня на наступающий год, все равно, будет ли он последним в моей жизни, или за ним последует еще много других. Для себя я призываю на вас все благословение Всевышнего. Да, благословите меня – я мысленно становлюсь пред вами на колени – и просите за меня Бога, чтобы Он сделал меня такою, какой мне следует быть». Был ли тут роман в стиле «Евгения Онегина»? Неизвестно. Но Норова так и не вышла замуж, она умерла в 1835 году от чахотки, когда Чаадаев жил в Москве.
Княжна Щербатова писала, что Петр Яковлевич был крайне огорчен смертью Норовой, которая его очень любила.
Петр Яковлевич пережил Авдотью Сергеевну почти на 21 год. Все эти годы он прожил во флигеле большого дома на Новой Басманной. Были изданы «Философические письма», вызвавшие царский гнев, не стало Пушкина. По понедельникам образованная и светская Москва посещала скромный кабинет Чаадаева. Бывали здесь Гоголь, Тютчев, Грановский, Герцен, известные иностранцы – Мериме, Лист, Берлиоз… Началась Крымская война. «В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов», – писал тогда «басманный философ».
В завещании П. Я. Чаадаев пожелал быть похороненным рядом с могилой Норовой. Около 30 лет он помнил о той любви. От «дворянского гнезда» в Надеждине остался лишь остов храма, похожий на брошенный космический корабль. Устремится ли он к звездам, или будет снесен, или, скорее всего, просто разрушится со временем?
Проезд: с Савеловского вокзала до станции Орудьево, далее автобусом № 25.
Апрель 1995 г. Фото из архива автора.

Могилы П. Я. Чаадаева и Норовых

Остов храма в Надеждине
Назарьево (Одинцовский район)
Назарьево – родовое гнездо Михалковых
Поселок Назарьево сейчас считается поселением городского типа: современные многоэтажные дома, магазины, церковь. За церковью – шоссе, ведущее к воротам дома отдыха. Всю жизнь он считался элитным: в советское время принадлежал Совнаркому, затем Совмину, а теперь предназначен для административного аппарата президента России. Здесь, в совхозе, выращивали экологически чистые овощи, поставляли к столу руководства молоко от специально завезенных голландских коров.
Петр I подарил Назарьево вместе с расположенными недалеко Вяземами князю Борису Алексеевичу Голицыну. «Князь Борис, человек умный, энергичный, распорядительный – как пишет о нем историк С. М. Соловьев, – знавший латинский язык и любивший говорить на нем, честно исполнял свои обязанности к Петру в том отношении, что оставался непоколебимо ему верен, берег его интересы, оказал важные услуги в борьбе с Софьею и после со стрельцами, с достоинством относился к своему воспитаннику, когда тот начал свою славную деятельность». С тех пор род Голицыных надолго обосновался в Назарьеве.
При князе Сергее Алексеевиче Голицыне, занимавшем в царствование Елизаветы Петровны пост московского губернатора, построена была деревянная Троицкая церковь. А кирпичную возвели на месте старой уже в 1824 году при Сергее Николаевиче Голицыне. Его внучка Елизавета Николаевна вышла замуж за Владимира Сергеевича Михалкова. И в 1856 году усадьба перешла к Михалковым.
Новые владельцы Назарьева построили двухэтажный усадебный дом, школу-трехлетку, которая на их же средства и содержалась, соорудили вокруг храма каменную ограду. Село, кстати, было немаленьким. По данным 1890 года здесь проживало 235 человек, имелась кузница и кирпичный завод (из этого самого кирпича и строилась Троицкая церковь). Для барской охоты содержалась псарня. В имении хранилась собранная еще Голицыными коллекция западноевропейской живописи, гравюр и скульптуры, а также прекрасная библиотека и бесценные архивные документы XVII–XX веков. Хозяева усадьбы непременно показывали гостям ель, получившую название «дерево Петра Великого», который, по преданию, бывал в Вяземах и в Назарьеве.
После революции «дворянское гнездо» разорили, сделав общенародным достоянием. Часть вещей свезли в музеи Звенигорода и Москвы (усадебная библиотека была еще в 1910 году передана в фонд книгохранилища Академии наук в Петербурге).
До того, как усадьба попала в партийное ведомство, здесь размещался сначала госпиталь, а потом детский дом для сирот. В 1960-е годы бывшие дворянские апартаменты перестроили для нужд дома отдыха. Подробнее история Назарьева описана в сборнике «Одинцовская земля» (М., 1994), но есть у этой истории и продолжение.
Потомки Михалковых навещали свою родовую усадьбу. Как рассказала нам староста церкви, помогали они в возрождении храма, привели в порядок могилы предков, находящиеся здесь.
Расположено Назарьево на крутом берегу речки Большая Вяземка. За речкой с прудом – белое заснеженное поле и заброшенное тепличное хозяйство, а через поле идет лыжня на Захарово, словно тонкая ниточка, связывающая нас с одним из истоков русской культуры.
Проезд: с Белорусского вокзала до станции Жаворонки, далее автобусом № 34.
Январь 1998 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом
Никольское-Урюпино (Красногорский район)
Кто в Белом домике живет?
В XVII веке Никольское-Урюпино принадлежало князьям Одоевским. Никита Иванович Одоевский ходил с царем Алексеем Михайловичем в поход на польского короля, а царям Ивану и Петру говорил, бывало, на придворных новогодних торжествах речь приветственную от имени бояр.
В 1664–1665 годах крепостной зодчий Одоевских, Павел Потехин, построил на высоком берегу реки Липенки взамен деревянной каменную церковь, Никольскую, но создание архитектурного усадебного ансамбля началось лишь спустя столетие. Урюпино, к тому времени оказавшееся во владение Долгоруких, купил князь Николай Алексеевич Голицын, владелец и один из устроителей расположенного неподалеку Архангельского.
В Никольском-Урюпине князь Голицын тоже приступил к обустройству усадьбы. Шедевром усадьбы стал построенный в 1776–1780 годах в стиле французского классицизма Белый домик, автором проекта которого считается архитектор Шарль де Герн. Большой парадный двор, дом с белокаменной колоннадой, парк с павильонами составили прекрасный ансамбль, а на другом берегу запруженной речки горели на солнце позолоченные кресты Никольской церкви.
В Белом домике центром композиции является Золотой зал. Его стены были расписаны по рисункам Буше на золотом фоне.
Князь Николай Алексеевич Голицын к концу своей жизни построил еще один дом, который стал называться Большим домом, в стиле русской классики.
Вдова князя, княгиня Мария Адамовна, продала Архангельское екатерининскому вельможе, богачу и любителю искусства Николаю Борисовичу Юсупову и переехала жить в Никольское-Урюпино.
При сыне Н. А. Голицына, князе Михаиле Голицыне, создавался новый усадебный комплекс под руководством архитектора М. Д. Быковского.
Какое великосветское общество образовалось в округе! В истории села Ильинского отмечено посещение императором Александром II и императрицей Марией Александровной своих соседей – князя М. Ф. и княгини Л. Т. Голицыных села Петровского, княгини Анны Николаевны Голицыной села Никольского-Урюпина, князя Н. Б. и княгини Т. А. Юсуповых села Архангельского.
Шло время, менялись поколения владельцев усадеб, в 1881 году террористы убили Александра II, но князья по-прежнему «дружили семьями».
Княгиня Софья Николаевна Голицына из соседнего Петровского вспоминала в своих мемуарах: «Жители села Ильинского устроили домашний спектакль. Поставили хорошенькую комедию «Шалость» и мне дали главную роль – молодой девушки Лики. Говорят, я сыграла недурно. Играли князья Сергей и Павел Александровичи, Константин Константинович, его адъютант Зеленый и барон Шиллинг, наша соседка по имению княжна Голицына и я».
Теперь, когда уж сыграны все комические и трагические роли в той эпохе, нам осталось наследство, которым мы не можем все еще распорядиться по-хорошему. Белый домик в Никольском-Урюпине стал серым, а местами и «почернел от горя». Заколоченные окна и двери, обвалившаяся штукатурка. В Белом домике сейчас, наверное, как в сказке сказано, живет мышка-норушка, да лягушка-квакушка иногда летом заскакивает.
Проезд: от станции метро «Тушинская» автобусом № 541.
Июнь 1997 г. Фото из архива автора.

Белый домик со стороны парка
Одинцово-Архангельское (Домодедовский район)
«Морозовские дачи» за глухим забором
Было у Саввы Васильевича Морозова, основателя знаменитой купеческой династии, пять сыновей. Немало сделали Морозовы для отечественной промышленности, культуры, здравоохранения, известны они были как крупнейшие меценаты и благотворители.
Расскажем лишь об одном представителе этого рода – Алексее Викуловиче Морозове, внуке Саввы Васильевича. Мало кто знает, например, о том, что музейная экспозиция русского фарфора, находящаяся в усадьбе Кусково, создавалась на основе его коллекции.
Маргарита Кирилловна Морозова, урожденная Мамонтова, вспоминала: «Это был человек тонкого ума, очень остроумный, любивший женское общество, хотя сам неженатый. Человек он был очень культурный, любил культурную работу больше, чем занятие своим делом, деятельную роль в котором предоставлял своему более молодому брату Ивану Викуловичу».
По сути, Алексей Викулович являлся скорее профессиональным коллекционером, чем купцом. Путешествуя по Европе, он приобретал шедевры русских мастеров, возвращая их тем самым в Россию. Собирал не только фарфор, но и миниатюры, лубок, вышивки, а также иконы, серебро и другие предметы старины. Свою коллекцию Алексей Викулович хранил в московском особняке, доставшемся ему от отца Викулы Елисеевича и перестроенном архитектором Ф. О. Шехтелем специально для размещения коллекции. Тот же Шехтель еще при жизни В. Е. Морозова спроектировал и перестроил в 1892–1894 годах великолепную усадьбу Одинцово-Архангельское, купленную у предыдущего владельца усадьбы А. Б. Голицына и расположенную неподалеку от нынешнего города Домодедово.
Усадебные постройки видны издалека: среди леса, на холме вдруг возникает причудливое здание в «ренессансно-барочном» стиле, а справа виднеется главка церкви. Перейдя по мосту через речку Рожайку, вы подходите к усадебным воротам. Но дальше путь закрыт – идут реставрационно-восстановительные работы. Однако из-за проволочного заграждения можно довольно подробно рассмотреть главный усадебный дом и служебные постройки.
А вот церковь Архангела Михаила не огорожена – вход свободный. Нынешний кирпичный храм построен на месте старого, деревянного, возведенного еще при прежних владельцах усадьбы, Нарышкиных. От церкви дорожка ведет к пруду с ocтровкoм посередине и беседкой на нем.
Часто ли бывал в усадьбе Алексей Викулович Морозов, неизвестно, поскольку большую часть времени он проводил в Москве, в своем особняке во Введенском (Подсосенском) переулке. В бурные революционные годы размещенная здесь коллекция оказалась в опасности: здание захватили анархисты, которых выбивали оттуда с боем. Затем коллекцию национализировали, а ее бывшему владельцу выделили в доме три комнаты. В 1919 году в морозовском особняке был открыт музей, проработавший десять лет, а в 1932 году уникальная коллекция фарфора попала в Кусково. Гравюры, иконы и остальные предметы разошлись по разным музеям страны. А в 1934 году не стало Алексея Викуловича.
Но вернемся к усадьбе. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь для летчиков, в котором, говорят, проходил реабилитацию Алексей Маресьев.
Сейчас в Одинцово-Архангельском идут реставрационные работы. Хорошо бы, если бы после восстановления «морозовские дачи», как называют усадьбу местные жители, не оказались за глухим забором. Ведь русские усадьбы – это, прежде всего, памятники нашей истории и культуры. Так неужели мы их можем лишиться?
Проезд: с Павелецкого вокзала до станции Домодедово.
Ноябрь 1997 г. Фото из архива автора.

Главный усадебный дом

Церковь Архангела Михаила
Ольгово (Дмитровский район)
Апраксин двор
В XVII веке Ольгово принадлежало воеводе города Дмитрова – Ф. В. Чаплину, а с 1740 года стало фамильным поместьем Апраксиных.
Степан Федорович Апраксин, дослужился при императрице Елизавете Петровне до фельдмаршала, был главнокомандующим русскими войсками в Семилетней войне. Эпизоды этой войны с Фридрихом II показаны в фильме «Гардемарины, вперед!». «Мирный фельдмаршал, – как писал о нем историк С. М. Соловьев, – любивший со всеми жить дружно и жить покойно, весело и роскошно. Апраксин вовсе не хотел торопиться походом. Недовольная этим императрица велела его (Апраксина) сюда к ответу позвать».



