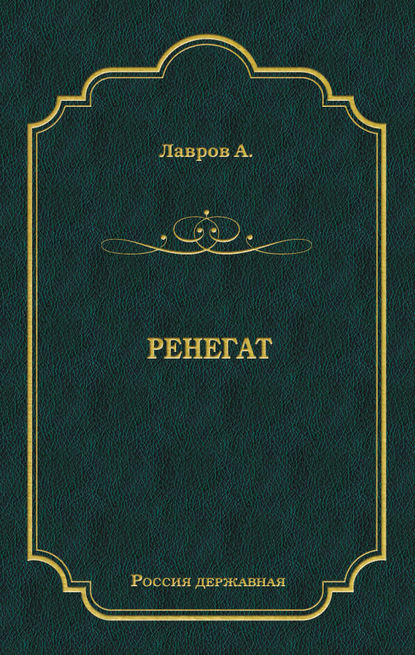 Полная версия
Полная версияРенегат
– Отец Тадзимано, – воскликнул первый, появляясь в комнате старика, – совещание приняло решение…
– Война решена? – бледнея, спросил старик.
– Да, отец…
– С Россией или Францией?
– С Россией!..
Стон вырвался из груди Тадзимано; он закрыл руками орошенное слезами лицо и хрипло прошептал:
– Война решена с Россией! Господи, спаси несчастную Японию!..
Часть III
Между сердцем и долгом
1. В Порт-Артуре
Если бы подняться на воздушном шаре ввысь и кинуть оттуда взгляд на Ляодунский полуостров, которым заканчивается Квантун – тоже полуостров, прежде всего воображение создало бы картину, представляющую залегшее на морской поверхности чудовище.
Именно такой вид имеет Ляодун с завершающим его мысом-полуостровом Ляотешанем.
В самом деле, эти ряды высот, тянущиеся довольно правильно с материка через узкий Цзиичжоуский перешеек, представляются как бы гигантскими позвонками этого чудовища; скаты их, отвесно спускающиеся на запад к Печилийскому и на востоке к Корейскому заливу, кажутся ребрами, а узкая полоса земли, прихотливо загнувшаяся назад и как бы опоясавшая собою обширное водное пространство, имеет вид и в самом деле чудовищного хвоста.
Своей дикостью весь этот полуостров производит тяжелое, гнетущее впечатление.
Эти горы, скалы, утесы, кручи давят своей величественностью, своей неприступностью человека; кажется, что этому слабому созданию не может быть места среди диких громад. Но человек – создание, приспосабливающееся решительно ко всему. Природа никогда не страшит его, и он стремится устроиться всюду, где только, по его разумению, обеспечены какие-либо выгоды для его существования.
Когда-то – вернее всего, во времена глубочайшей древности, той древности, когда Земля только что начала приходить в порядок и формироваться, – тот узкий, длинный клочок земли, который представляется хвостом чудовищного дракона, тянулся вплоть до противоположного берега и опоясывал вместе с ним большое внутреннее озеро. С течением времени, может быть, проработав целые века, внутренние воды промыли эту низкую береговую полосу и вырвались на морской простор. Там, где они, сокрушив сушу, соединились с морем, образовался узкий – не более двухсот сажен ширины – проливчик, очень мелкий, со слабым, чуть заметным течением, но благодаря тому, что этот проливчик появился, внутреннее озеро обратилось в прекрасную бухту, защищенную от свирепых бурь и от всевозможных капризов мятежного, никогда не ведающего покоя моря.
Люди со свойственной им инстинктивной проницательностью быстро заметили, какие огромные удобства может предоставить им эта внутренняя гавань, и поспешили поселиться на берегу ее.
Эти первые поселенцы в этой местности были китайцы.
Есть некоторые указания, что сюда они забрели, спасая свою жизнь от произвола мандаринов; другими словами, это были просто беженцы из внутренних областей Китая, по тем или другим обстоятельствам спасавшие свою жизнь.
Мудрено ли, что потомство этих беглецов обратилось в течение своего непродолжительного времени в отчаянных морских пиратов, наводивших ужас на купцов-мореплавателей?
Для подобного рода промысла место оказалось как нельзя более пригодным. Пиратские джонки могли оставаться на водах внутренней бухты совершенно незаметными и вдруг появляться перед несчастными купцами, бороздившими на своих утлых джонках Желтое море по всем направлениям.
Все это было давно, очень давно. Мандарины «сына неба», которым перепадала порядочная часть пиратской добычи, смотрели сквозь пальцы на гнездо морских разбойников, а это гнездо все разрасталось, увеличивалось, и, наконец, вместо пиратского поселка появился довольно большой китайский городок.
Когда в китайских водах стали появляться кроме китайских, японских и малайских судов еще и европейские, открытое занятие морским грабежом стало невозможным и пиратский городок превратился в рыбачий поселок.
Рыболовство – занятие вполне мирное, никаких нареканий не вызывающее, но тем не менее торговые суда, заходившие в китайские воды, прилегающие к этой части береговой полосы, частенько пропадали, и пропадали всегда бесследно.
Это обратило на себя внимание англичан, только что начавших в то время, после своего похода вместе с французами на Пекин, ввозить в пределы Небесной империи опиум. Исчезновение судов с грузом этого драгоценного яда вызвало расследование, и английское морское министерство командировало в Желтое море экспедицию, на обязанности которой лежало описание всех поселений по берегу Квантунского полуострова.
Находившийся в составе экспедиции корабль «Альджерино», которым командовал лейтенант Артур, совершенно случайно открыл и внутреннюю бухту, и рыбацко-пиратский поселок, скрытый со стороны моря гранитными громадами Ляотешаньского мыса. Это было в 1858 году.
Свой городок китайцы называли Люшунькоу, командир же «Альджерино», желая увековечить свое имя в истории мореплавания, занес на карты всю эту местность под именем Порт-Артура, и это наименование так и осталось за ним с того времени.
Появление на картах нового порта ничего особенного не повлекло за собой. Мало того, если прежде Люшунькоу был довольно богатым и с густым населением местечком, то после посещения его «Альджерино» он быстро начал хиреть, нищать и мало-помалу обращаться из городка в беднейшее приморское селение. Капитан Артур своим визитом обратил на Люшунькоу внимание самых ненасытных из всех хищников Небесной империи – мандаринов и ее богдыхана, и они не замедлили обобрать догола недавних пиратов, да так, как эти профессиональные разбойники никогда не обдирали попадавших к ним в руки купцов.
Во второй половине XIX столетия, ближе к концу его, среди богдыханских мандаринов явилось счастливое исключение. Печилийский вице-король Ли Хунгчанг, не имевший за собой длинного ряда предков-вельмож и вышедший из среды народа, хоть «драть-то тоже драл и с живого и с мертвого», но все-таки радел о пользе своего отечества по мере сил своих.
Этот просвещенный китаец заметил, что Порт-Артур со своей внутренней бухтой представляется лучшей во всем мире коммерческой гаванью. Он обладал огромным политическим проникновением и совершенно ясно видел, что, когда мировая торговля устремится к берегам Тихого океана, цены не будет этой гавани, представлявшей все удобства не только для морской, но и для сухопутной торговли, ибо отсюда пролегала прямая и удобная дорога на древнейшую столицу Кореи – Ляоян, а из этого городка – на еще более древнюю столицу Маньчжурии и Китая – Мукден. Чтобы сохранить за Китаем, этот важный уголок земли, Ли Хунгчанг приказал возвести крепость на высотах, обрамляющих внутреннюю бухту. Крепость была возведена, но спустя несколько лет Япония, стремившаяся к выходу на материк, объявила войну Китаю, заняла своими войсками весь Квантун, и крепость Порт-Артур была взята после недолгого штурма. Это было уже в 1894 году.
Японцам не удалось воспользоваться плодами своих побед. Великие европейские державы не выпустили их на континент и заставили вернуться на их острова. Спустя несколько времени, в мае 1898 года, Китай уступил Квантун в аренду России, прокладывавшей в то время железнодорожный путь, который должен был связать берега европейского Севера и Запада с азиатским Дальним Востоком.
С водворением русских сразу же изменилась физиономия древнего китайского поселения. Вместо грязных китайских фанз на берегах люшунькоуской бухты выросли два европейских города – Старый и Новый, в которых решительно ничего китайского не было заметно. Надбрежные высоты увенчались укреплениями, внушавшими даже европейцам уважение к этой новой «твердыне» России на окраине Дальнего Востока.
При приближении к входному проливу-каналу Порт-Артура прежде бросаются в глаза холодные гранитные громады Ляотешаньского мыса. Скаты их почти отвесны и ниспадают прямо своими лишенными всякой почвы и растительности кручами.
Это с одной, склоняющейся к западу, стороны пролива. На тянущемся по направлению к востоку берегу, у самого входа в пролив, высится другая гора, на склонах которой возведены батареи, обстреливающие и морские дали, и подступы к бухте. Это Золотая гора. С нее открывается лучший вид на море и весь Квантун, и она является колыбелью Порт-Артура, ибо на ней была сооружена знаменитым Ли Хунгчангом первая китайская крепость, срытая после того, как европейские державы заставили японцев-завоевателей уйти долой с материка.
Левей со стороны города берег пролива составляет длинная узкая, с небольшим расширением на конце коса, напоминающая собой загнутый хвост диковинного чудовища. Китайцы называли эту косу Ляокувей, что в переводе значит «Хвост тигра». Это название удержалось и впоследствии. «Хвост тигра» был только переделан в «Тигровый хвост», и на нем одно время был размещен двенадцатый полк сибирских стрелков, получивший от своей стоянки прозвище «Тигрового полка».
К востоку от Золотой горы тянутся довольно высокие Драконовы горы, к которым на севере примыкают Крестовые высоты, а за ними поднимается новая гряда, носившая название Волчьих гор. От этих последних к берегу Печилийского залива тянутся параллельно два горных кряжа: первый – Зеленые горы и второй – Дагушанские холмы; с запада вздымаются Сунгашанский горный хребет со своей наиболее заметною среди других Столовой горой. Вершины хребта носят «птичьи» названия, но среди них попадаются уже и более позднейшие прозвища: «Метровая высота», «Высокая гора» и другие. По самому берегу бухты поднимаются не особенно высокие холмы, носившие общее наименование горы Белого Волка, и, наконец, те гранитные громады, которые заканчивают собою полуостров, остались с китайским названием Ляотешаня.
Внутренняя бухта Порт-Артура, таким образом, со всех сторон окружена, как рамкой, высотами, не пропускающими к ней ни шквалов, ни штормов. Лишь изредка, когда на море свирепствует буря, в бухте заметна небольшая рябь. Между тем бухта прямо поражает своими размерами: площадь ее почти двенадцать верст, и на таком пространстве, будь глубина бухты всюду достаточна, мог бы поместиться любой флот. Но в том и главное неудобство бухты, что она не везде обладает глубиной, необходимой для стоянки военных судов, обладающих значительной осадкой. Сообразно своей глубине вся бухта подразделена на западный и восточный бассейн. На одном стоят мелкосидящие купеческие корабли, другой предназначен для стоянки броненосцев. Кроме того, в берег Квантуна врыт третий просторный бассейн саженей семь глубины, являвшийся гаванью для всех вообще судов и в особенности для тех, которые нуждались в починке.
Город раскинулся на самом берегу восточного бассейна и в течение не более как пяти лет обстроился так, что в общем своем виде мог бы посоперничать и своей красотой, и своим благоустройством со многими городами Европы и Америки. Все строения в нем были каменные, не давили людей своею величиною. Места было много, и пока незачем было зданиям тянуться ввысь. Прямые, всегда чистые, превосходно вымощенные улицы перерезывали город во всех направлениях. На них было много зелени, но любимым местом прогулки артурцев был бульвар, разбитый как раз на берегу бухты.
В Старом городе жила, так сказать, артурская аристократия: семьи офицеров – сухопутных и моряков, чиновники артурской администрации, русско-китайского банка. Здесь же были собор, здания административных управлений, дом наместника и т. д.
Артурцы с более скромным общественным положением населяли Новый город, создавшийся уже после китайской войны на берегу западного бассейна. Обе эти части города почти слились вместе, но в последней части жизнь кипела большим оживлением. Обитатели «рангом попроще» не любят стеснять себя всевозможными условностями общежития. На улицах Нового города постоянно была видна оживленная, суматошащаяся толпа, состоявшая из представителей чуть ли не всех народов азиатского Востока. Японцы, китайцы, индийцы, даже малайцы – все здесь смешивались в одну общую массу с пришельцами: русскими, англичанами, американцами и даже неграми, попадавшими сюда с коммерческих кораблей. Здесь, в этой части, в изобилии были и шикарные рестораны, и гостиницы для путешественников, и грязные матросские кабачки, и всякого рода вертепы. Тут же был и усердно посещаемый всеми артурцами театр, в котором играли наезжие из России труппы. Артисты, составлявшие их, не всегда были «на высоте своего призвания», но скучающие артурцы вполне довольствовались и такими жрецами Мельпомены. Когда в России народилась так называемая «идея всенародной трезвости», и Артур не отстал от общего стремления, и там началось всенародное отрезвление путем драматических представлений в матросской чайной, где давались ради искоренения среди христолюбивых воинов любви к алкоголю модные пьесы «с настроением».
Пресную воду артурцам доставляли две реки – Лухэ и Таучинь, впадающие в порт-артурскую бухту. Вверх по течению первой, версты на две в глубину материка, стоял грязнейший китайский город, население которого исключительно составляли пришедшие на заработки китайцы. Сам по себе, по своей грязи этот город был нечто невозможное, и порт-артурская дума не позволяла уже возводить в нем прежнего типа постройки, предполагая перестроить весь этот город на европейский лад, заменив жалкие китайские фанзы каменными строениями.
Таков был Порт-Артур, которому вскоре после начала настоящего правдивого повествования пришлось стать ареной знаменательных исторических событий.
Но, пока над этим уголком не грянул раскат внезапного грома, никто в нем не думал креститься. Каждый делал свое обычное дело: молодежь посещала рестораны, солидные семейные люди проводили свое свободное время за винтом, чиновники, облеченные во всевозможные формы, исписывали ворохи бумаг, а тучи собирались и все более и более густели…
2. Откровенная беседа
В тихий, но несколько морозный день по набережной Порт-Артура не спеша шли двое молодых людей, громко и несколько возбужденно разговаривавших друг с другом. Эти молодые люди были уже знакомые читателям этого повествования Андрей Николаевич Контов и Александр Тадзимано.
– Итак, мой дорогой лейтенант, – говорил первый, – мы должны скоро расстаться…
– К сожалению, да… Срок моего отпуска кончается, и я должен вернуться.
– Кто знает, придется ли еще увидеться…
Тадзимано улыбнулся как-то особенно.
– Я думаю, что придется! – промолвил он.
– А что значит ваша улыбка?
– Да ровно ничего, добрый друг… Если хотите, мне пришла в голову шальная мысль.
– Какая?
– А вот какая! Я здесь живу уже около месяца, и мы сошлись как будто довольно близко. Я смею думать, что мы даже стали друзьями. Теперь представьте себе, каково будет нам узнать, что вспыхнула война. Ведь в этом случае мы станем врагами, не питая друг к другу ни малейшей вражды…
Контов, не дослушав даже фразы Тадзимано, громко рассмеялся.
– Никакой войны не будет! – объяснил он. – Удивляюсь, откуда берутся все эти толки.
– Вы думаете, что не будет? – задумчиво произнес лейтенант. – Что ж, я этому могу только радоваться…
– Вы можете мне не верить… Знаете что? Зайдемте ко мне, на морозе говорить не особенно удобно.
– Пожалуй… – согласился Тадзимано. – Я даже хотел сам напроситься к вам в гости.
– Напрасно не сказали раньше… А еще говорите, что мы – друзья! К чему такая неоткровенность? Ведь вы знаете, что я живу совсем недалеко отсюда.
– Тогда пойдемте скорее. У вас здесь мороз гораздо сильнее, чем на наших островах.
– Только не будем говорить ни о войне, ни о вашем отъезде!
– Согласен! О чем угодно, только не об этом.
Молодые люди, не переставая весело болтать, свернули с бульвара в одну из перекрестных улиц и скоро очутились около небольшого двухэтажного домика, в котором Контов занимал весь второй этаж.
На звонок им отворил дверь слуга-японец, на лице которого, как только он увидел своего господина, сейчас же появилась расплывчатая, плутоватая улыбка.
– Ну, что, Ивао, тезка знаменитого японского маршала Оямы, – шутливо обратился к нему Андрей Николаевич, – не был ли кто тут без меня?
– Был, господин! – ответил слуга. – Был гость, и новый…
– Кто такой?
– Я никогда не видал, чтобы он ранее того приходил к вам… Это почтенный старец; он имеет вид большого мудреца.
– Да кто он такой? – воскликнул Андрей Николаевич. – Как его имя?
– Свое имя этот старец не пожелал мне сообщить; с виду он показался мне чем-то очень расстроенным… По крайней мере на его глазах я приметил слезы… Я думаю, что ему хотелось видеть вас…
– Русский он, японец, иностранец?
– Я думаю, что этот почтенный старец – русский. Вы убедитесь, что я прав, когда он придет сюда еще раз и застанет вас дома…
– Разве он придет еще?
– Да, господин, этот почтенный старец сказал, что придет непременно.
– Ну, бог с ним! Придет, так придет! Проходите-ка, Тадзимано, сюда.
Контов провел гостя в небольшую гостиную, рядом с прихожей.
– Располагайтесь! Ивао сейчас растопит камин и принесет нам вино, кофе, чай… Что вы хотите?.. Все у меня есть и все наготове!
Из гостиной в отворенную дверь был виден кабинет хозяина. Обе эти комнаты, если и не были обставлены роскошно, все-таки своей обстановкой изобличали в своем хозяине человека с крупными средствами. Как ни недороги были в Артуре различные привозимые из Америки и даже Европы предметы роскоши и комфорта, все-таки нужно было иметь солидные деньги, чтобы обставить себя именно так, как обставлен был Контов.
– Что это вы с таким изумлением осматриваетесь? – с улыбкой спросил Контов. – Ведь вы не в первый раз у меня… Все это видели вы и раньше…
– И представьте себе, что каждый раз меня несказанно изумляет…
– Что именно?
– Откуда у вас все это явилось?.. Я не решался предложить этот вопрос, опасаясь, что обижу вас. Во Фриско вы казались мне путешественником – простите! – с очень скромными средствами…
Андрей Николаевич самодовольно улыбнулся.
– Это значит, батенька мой, что я работаю… Мне все то, что вы видите, дал труд.
– Это очень хорошо! – согласился Тадзимано. – И я от души радуюсь за вас.
– Благодарю вас! – с мрачным раздражением проговорил Андрей Николаевич. – Я вполне уверен, что вы искренни… Если бы все так же относились ко мне, я был бы счастлив.
– Я не сомневаюсь, – с улыбкой посмотрел на него лейтенант, – у вас немало завистников.
– Если бы только завистников! – слегка ударил кулаком по столу Контов. – На завистников я не обратил бы внимания…
– Тогда у вас есть враги?
– Не то! – махнул рукою Андрей Николаевич. – Что враги? А вы представьте себе, что я должен был перечувствовать, переиспытывать, как я должен был мучиться, когда такой испытанный друг, как Иванов, покинул меня?..
– Иванов вас покинул? – с удивлением воскликнул Тадзимано. – Что за причина?
– Не знаю… – горько усмехнулся Контов, – какая-то муха укусила его…
– Что значит «муха укусила»?
– Так говорят у нас в России, когда кто-либо без всякой видимой причины начинает сердиться на другого. Иванов приехал с вами, сперва был очень доволен всем, а я-то как был доволен, что он, наконец, снова со мною! Ведь мы так сдружились, что стали родными. Для меня по крайней мере Иванов – единственный человек, которого я считаю близким себе, и вдруг этот страшно оскорбивший меня уход…
– Но что же такое вышло? – вскричал Тадзимано. – Быть может, вы поссорились?..
– Ничего подобного! Ни единой размолвки… Сперва Иванов радовался, восхищался, потом через несколько дней стал киснуть, хмуриться… Перестал даже смотреть на меня… Взгляну ли я на него, сейчас глаза так и прячет, а если успею его взгляд подловить – какой-то укор, сожаление так в нем и чувствуются… Я бесился, расспрашивал, что такое, – молчит… Потом взял да и ушел… от меня ушел! – Контов почти простонал эти последние слова. – Ни слова не сказал на прощанье… Так и разошлись… С тех пор как он ушел, ни ногой ко мне… И не встречаемся даже… видимо, избегает.
– Жаль, что так вышло, очень жаль! – покачал головой Тадзимано. – Где же теперь Иванов?
– На Невском заводе работает. Это вашему народу, Тадзимано, мастеровые обязаны тем, что у них теперь всякой работы столько, что с утра до ночи не переработаешь…
– Чем же это?
– Пошли эти несуразные слухи о войне, так из России наслали миноносок в разобранном виде… Теперь их на Невском заводе собирают…
И, отвлекшись от первоначальной темы разговора, Андрей Николаевич начал рассказывать своему гостю о ходе работ на Артурском судостроительном заводе.
– Послушайте, – вдруг перебил рассказ Контова Тадзимано, – зачем вы мне это все рассказываете?
– А что? – удивился тот.
– Да ведь вы сообщаете такие сведения, что… что… – несколько замялся лейтенант, – их лучше бы не сообщать, если только они стали известными постороннему, то есть частному лицу…
– Что же вы тут увидели особенного?
Тадзимано пожал плечами.
– Качественное и количественное состояние боевых сил да еще во время ожидания войны всегда составляло строжайший секрет… Впрочем, это касается только наших военно-морских учреждений… У вас, вероятно, дело поставлено по-другому.
– Э, пустяки! – беззаботно махнул рукой Контов. – Может быть, все это и действительно должно быть секретом, но какой же это секрет, который известен стольким людям?.. Впрочем, я понимаю, эта тема скучна для дружеской беседы… Там, на бульваре, вы хотели мне что-то сказать… Вот, кстати, мой Ивао несет нам чай… Коньяк к нему у меня привезен из Фриско: попробуйте, он, мне кажется, очень недурен… Поставь здесь, Ивао, и можешь уходить.
Молодые люди, оставшись одни после ухода японца-слуги, некоторое время молчали.
– Ну-с, так что же вы хотели мне сказать, Александр Николаевич? – прервал молчание Контов. – Судя по выражению вашего лица, я ожидаю чего-то важного…
– Нет, что же может быть важное?.. А не находите ли вы, что между нами есть совпадение, и очень странное?
– В чем же именно?
– Да как же… Мы оба православные: вы Андрей Николаевич, я Александр Николаевич… Наши отчества тождественны.
– Что же тут странного? Имя Николай очень распространено среди православных. Вы это-то мне и хотели сказать?
– Нет, это я только кстати…
– Тогда существенное, стало быть, впереди?.. Слушаю…
Тадзимано помолчал, видимо, собираясь с мыслями.
– Видите ли, – заговорил он, задумчиво смотря вперед, – я жил в Порт-Артуре, живу порядочно долго здесь и теперь, в такое время, когда разрыв между вашим и моим отечеством никогда не был еще так близок, как ныне…
– Вы опять с вашими страхами! – с легким смехом воскликнул Контов.
– Я знаю, что говорю! – с ударением проговорил Тадзимано. – Простите, простите! – заметил он выражение неудовольствия на лице Контова. – Право, все это так странно…
– Что именно вы находите странным? – с суровостью в голосе спросил тот.
– Да вот это… я не знаю, как это выразить на вашем языке. У нас все, понимаете, все – и сановники, и последние земледельцы, и в Токио, и в захолустье – готовятся к войне с вами, вооружаются, спят и во сне бредят предстоящей войной, а вы остаетесь совершенно спокойными, как будто ничего нет впереди тревожного. У западноевропейцев такое состояние называется «танцами на вулкане». На кратере собрался бал, люди веселятся, играют, танцуют, смеются… Вдруг подземный гул, раскат глухого подземного грома, и недавние танцоры летят на воздух, а из кратера рвутся клубы дыма, течет огненной рекой лава, уничтожая все на своем пути.
– Ваши слова, быть может, очень образно представляют положение дела, – возразил Контов, – но, видите ли, у нас все очень своеобразно… У нас есть так называемая администрация, «начальство», как мы его величаем, оно и следит за всем, оно и заботится обо всем. Мы, простые смертные, не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в дела нашего «начальства». Если разразится война, то нам, конечно, об этом скажут и мы будем сражаться с тем, на кого нам укажут как на врага, будь то японец, турок, англичанин, и мы пойдем на всех, на кого нас поведут. А пока начальство ничего не говорит, в официальных органах его извещения ни о чем не появляются, стало быть, и думать нам нечего… Будем жить, веселиться, хотя бы и на вулкане… Какое нам дело, что где-то там что-то грохочет, откуда-то курится дымок?.. Начальство все видит, все знает, и вы как православный из катехизиса должны знать: «Нет власти, которая не от Бога».
– Вы это говорите искренне? – с любопытством посмотрел на Контова лейтенант.
– Вполне.
– И не иронизируете?
Контов с воодушевлением воскликнул:
– Нисколько! Так, как я думаю, думают миллионы русских людей… Есть, правда, и в России беспокойные существа… Они суются со своими советами, указаниями, никому не нужными… Конечно, в распоряжении начальства всегда достаточно средств, чтобы заставить замолчать таких крикунов. Что вы так на меня смотрите?

